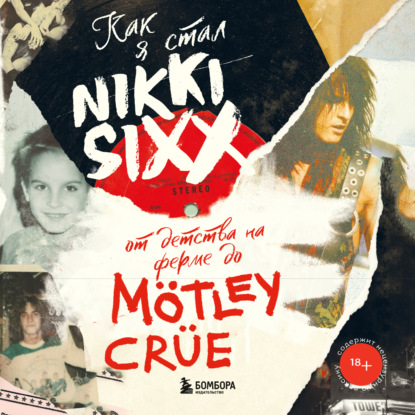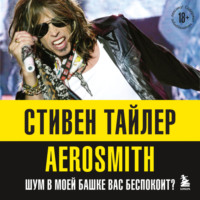Полная версия
Аэросмит. Шум в моей башке вас беспокоит?
Во время сухого закона люди ездили на поезде из Нью-Йорка в Санапи, а бухло привозили из Канады. Кто-то пил, а кто-то – нет. Может, они приезжали на выходные, чтобы смотреть, как падают листья, но что-то мне подсказывает, что они садились на поезд, чтобы отдохнуть от всего – покататься на лошадиных повозках, остановиться в большом отеле, поплавать на старых пароходах. Те, что сейчас стоят в бухте Санапи, – копии тех, что были сто лет назад. Очень странные. В пятнадцати километрах по главной дороге был Нью-Лондон, тот самый Пэйтон Плейс, где, как ни странно, родился Том Хэмилтон. Но опять же сейчас я не вижу в этом ничего удивительного.
По воскресеньям папа давал концерты в Троу-Рико. Люди со всей округи собирались, чтобы его послушать, а бабушка, мама и сестра иногда играли дуэтом. Во всех семьях, которые к нам приезжали, были дети, и тетя Филлис кричала: «Давай, Стивен, устроим для них шоу!» Внизу, рядом с фортепианной комнатой, была игровая: пинг-понг, музыкальный автомат, бар и, конечно же, дартс. В углу комнаты висел большой занавес, служивший сценой, на которой тетя Филлис учила всех детей песням навроде «Джон Джейкоб Джинглхаймер Шмидт» и «Дыра в ведре». Я показывал пантомиму под песню Animal Crackers, звучавшую со старой граммофонной пластинки. Это были вечера в стиле лагерного водевиля. Под конец мы вешали белую простыню перед столом, сделанным из двух строительных козел и доски. Кого-то из зрителей звали, чтобы он ложился на доску, а сзади гигантская лампа отбрасывала тени на простыню. Мой дядя Эрни делал операцию лежащему человеку, делая вид, что распиливает его пополам, а потом вытаскивал ребенка – все это было для зрителей достаточно жутко и весело. Все, конечно, делалось с насмешкой, но это, безусловно, было началом моей карьеры.
За год мы делали где-то сто пятьдесят таких шоу. Я был тем еще актеришкой. Занимался тем, что было мило только для детей, – особенно для восторженных родственников. Это было похоже на фильм Микки Руни. Я даже выучил слова песни «Кемо-Кимо».
Кемо-Кимо, вот, смотриМа-хи, ма-хо, ма-румо стика пампаникаСуп бам, полли митчи камиюЯ тебя люблюА потом я добавлял что-то типа «Стика стика стамбо, но со рамбо, посмотри сюда, тама рама ра». И что это была за чертовщина? Начало моей любви к настоящей музыке и чокнутым словам.
До того как я занялся домашними делами в Троу-Рико, до того как я открыл для себя девушек, травку и игру в группах, у меня была отличная жизнь в лесу с моей рогаткой и игрушечным пистолетом. Как только мы туда приезжали, я убегал в леса и поля. И не возвращался до самого ужина. Я был парнем гор, босым и диким. Гулял по лесу, смотрел на деревья, на птиц, на белок – это был мой личный рай. Я привязывал палку к веревке и вешал качели на любую ветку дерева. Так меня воспитали – дикое дитя лесов и прудов. Но, конечно, никто мне не верит. Люди не знают, что и думать, когда я говорю: «Знаете, я простой деревенский парнишка».
Ни волн, ни ветра. В звуконепроницаемой студии звукозаписи ушам сразу же становится некомфортно. Особенно с закрытой дверью – звуковое истощение, безэховая комната без какого-либо шума. В лесу совсем не так. В той тишине я тоже что-то слышал.
Вся эта тайна исчезла, когда я подсел на наркоту. Вдали от этого гвалта я снова почувствовал свою духовную связь с лесом. Наркотики украдут тебя, как мошенник – наличку. И всей духовности конец. Я больше не видел то, что раньше было в периферийном зрении. Ни периферии, ни зрения.
Раньше я часто уходил в лес, сидел там один и слушал, как дует ветер. В детстве я набредал на такие места, где обитали лесные звери. Крошечные человеческие существа. Я видел кроватки из мха, подушки из сосновых иголок, укромные уголки под корнями поваленных деревьев, полые бревна. Я повсюду искал эльфов, потому что невозможно, чтобы в такой причудливой красоте никто не жил! И все это доводило мое воображение до такого состояния, что я был уверен: в этом лесу есть кто-то, кроме меня. Спать на таком толстом мху было бы блаженством. Тогда я чувствовал запах зеленой травы. Я видел естественный маленький грот в лесу и говорил себе: «Видимо, там они и живут».
Несколько лет назад я нашел кроватку из мха в маленьком магазинчике в Нью-Лондоне. Там была куча подобных вещей, а еще – большая деревянная арка и гигантские птичьи крылья. Эта кроватка сделана из веток с матрасом из мха, подушка – из перьев куропатки, с деревянным гнездом и треснувшим пополам яйцом страуса с маленькой надписью и отпечатками фей, которые родились на этой кровати. Мы хранили ее дома, чтобы двое моих детей, Челси и Тадж, смотрели на нее и просто знали, что на этой кровати родились феи. Они спрашивали: «Правда?», и я отвечал: «Правда».
Я купил два поля, по которым раньше гулял. В последнее время я не ходил в лес, чтобы проверить, что с ним стало; я боюсь, что он уже не такой, каким я его помню. Но я вырос среди этих существ. Я был один в лесу, но никогда не чувствовал одиночества. Там и произошло мое первое знакомство с инаковостью, с другим миром. Моя духовность пришла не из молитв господних, не из церкви и не из библейских картин, она пришла из тишины. Она так сильно отличалась от всего, что я испытывал раньше. Единственный звук, который можно услышать в сосновом лесу, – это тихий свист ветра между иголками. А кроме этого там просто тишина… как после снегопада… В лесу правда очень тихо… треск веток… ничего. Это похоже на то, что я чувствовал, когда принимал наркотики, – ветер на своем лице, хотя знал, что нахожусь в ванной и дверь закрыта. Так со мной говорила Мать-природа.
Я все ходил и ходил в лесу. Находил каштаны, волшебные кольца грибов, птичьи гнезда, сплетенные из человеческих волос и рыболовной лески. Я представлял, что нахожусь в джунглях Африки, забираюсь на ворота больших поместий и сажусь на каменных львов (пока кто-нибудь не крикнет: «Слезай оттуда, парень!»).
Вот где родилась моя духовность. Разумеется, я познакомился с духовностью и через религию, в пресвитерианской церкви в Бронксе и у моей учительницы по хору мисс Рут Лонши. В шесть лет я выучил все гимны (и несколько ее песен). Я влюбился в двух девочек, сидевших по обе стороны от меня в хоре. Конечно же, они просто должны были быть близняшками. Помню, в пять лет я сидел на скамье в церкви рядом с мамой и смотрел на алтарь с Библией и прекрасной золотой чашей, над которыми возвышался священник. Еще там был золотой гобелен с вышитым на нем распятием, который свисал до самого пола. Я давно уже выучил, что надо вставать, садиться, вставать, петь, садиться, молиться, петь, молиться, вставать, молиться, петь и надеяться, что все это приведет меня в рай. Я был уверен, что Бог должна быть ПРЯМО ТАМ, под ЭТИМ алтарем. Точно так же, как я накрывал одеялом стулья в столовой, чтобы построить крепость – безопасное, сильное место, вроде церкви, только с воображением в виде дополнительного бонуса. УХ ТЫ, и все это соединялось воедино в один прекрасный момент, когда Я чувствовал БОГА. Но потом я снова встретил Ее в лесу.
Я гулял по Санапи с рогаткой в заднем кармане через луг и лес, пока не заблужусь… и тогда начинались мои приключения. Я натыкался на гигантские деревья, так густо заросшие каштанами, что ветви склонялись к земле; на кусты, полные дикой ежевики, малины и рябины; на акры открытых полей, полных дикой земляники в траве – настолько, что когда я косил газон, он пах домашним маминым вареньем. Я находил следы животных, ястребиные перья, светлячков и грибы в форме домиков хоббитов – мне сказали, что из них ушли Фродо и Арвен из «Властелина колец». Между прочим, это те же самые грибы, которые я потом буду есть, и они волшебным образом заставят мое перо писать тексты песен типа Sweet Emotion. В хоре я пел Богу, а под грибами Бог пела мне.
Я притворялся индейцем лакота с луком и стрелами – «Один выстрел, одно попадание», вот только у меня был игрушечный пистолет – «Одна пулька, одна птица». Мы тихо передвигались по лесу с моим воображаемым другом Чингачгуком. Я был метким стрелком; после целого дня охоты с рогаткой и пистолетом я возвращался с веревкой голубых соек, привязанной к моему поясу. Эта часть не была воображаемой. Каждую весну я наблюдал, как голубые сойки совершают набеги на гнезда других птиц и забирают их птенцов. Мой дядя сказал мне, что голубые сойки плотоядны, прямо как соколы и юристы.
Я ездил с отцом на рыбалку на озеро Санапи в четырехметровой, сделанной в сороковые годы, очень древней, гигантской деревянной 120-килограммовой весельной лодке, которую мог поднять только викинг. Даже ручки весел были толще, чем любимая фермерская свинка. Ты стоишь посреди озера, и солнце палит, как в Сахаре. Ты горишь, ты не можешь плыть дальше. К тому времени как мы доплывали до середины, где клевали БОЛЬШИЕ, мы все понимали, что надо грести обратно. Мы – это Я. А-ха-ха-ха! Я стал Папаем Талларико. После того как я начал косить по сорок акров раз в неделю, я спокойно мог грести обратно к берегу (и нести на себе всю тяжесть мира).
Я все ходил и ходил в лесу. Находил каштаны, волшебные кольца грибов, птичьи гнезда, сплетенные из человеческих волос и рыболовной лески. Я представлял, что нахожусь в джунглях Африки, забираюсь на ворота больших поместий и сажусь на каменных львов (пока кто-нибудь не крикнет: «Слезай оттуда, парень!»).
В лесу у озера были большие гранитные валуны, которые оказались там из-за ледников во время ледникового периода. Над дорогой в Санапи, рядом с которой я жил, были пещеры с рисунками индейцев на стенах – пиктограммами и знаками. Они были обнаружены, когда город построили еще в 1850-е годы. В этих самых пещерах жили индейцы пеннакук. Убив всех индейцев, белые построили и назвали в их честь гранд-отель на семьдесят пять номеров, «Пещера индейцев», первый из трех гранд-отелей в районе Санапи и первое место, где я играл на барабанах с папиной группой в 1964 году, а еще в километре от этого места я впервые услышал, как играет Брэд Уитфорд.
В городке Санапи раньше было место для катания на роликах. Это был старый сарай; с обеих сторон были открыты двери, а снаружи все залили цементом, чтобы люди катались вокруг сарая и могли проехать через середину и выехать с другой стороны. В детстве это казалось шикарным местом. В те времена можно было взять ролики напрокат в самом сарае у задней стены и купить газировку в стаканчиках, которые все забирали, проезжая мимо. Потом там поставили небольшую сцену, где иногда выступали группы. К следующему лету там можно было не просто кататься на роликах, а еще и танцевать на них под музыку своей любимой группы. Это было уникальное место, и называлось оно «Сарай». На другой стороне улицы находился ресторан под названием «Якорная». И после долгого дня на пляже, катания на водных лыжах или не очень удачной рыбалки там можно было пришвартовать свою лодку и заказать себе рыбу с картошкой фри… Кстати, о картошке: никто не жарил ее лучше, чем повар из «Якорной» – Джо, мать его, Перри. Я вернулся туда, чтобы пожать ему руку, и вот он стоял во всем своем великолепии, черные очки в роговой оправе с белым скотчем посередине, благодаря которому они оставались на носу. Он был похож на Бадди Холли в фартуке. Я спросил: «Привет, как дела?» или скорее: «Еще не родила?». В то время я играл в группе Chain Reaction – и не имел ни малейшего понятия, что мое будущее лежит где-то между картошкой фри и скотчем, скрепляющим его очки.
В конце каждого лета я возвращался в Бронкс, и это было абсолютным культурным шоком. Назад к стопроцентному городу – многоквартирные дома, тротуары – от стопроцентной деревни, где шастают олени и антилопы. Не многие люди сталкиваются с такими резкими переменами. Мы жили в месте вроде проекта: сирены, гудки, мусоровозы, бетонные джунгли, и все это я сравнивал с деревней – сгнившие старые каноэ начала 1900-х, последнее поколение, которое еще знало настоящих индейцев. Охренеть! К 1 сентября все туристы, которые летом заполняли Нью-Гэмпшир шумом и весельем, бежали обратно в город, как перелетные птицы. Добро пожаловать в сезон увядания. Сначала трава, зелень и старая добрая Мать-природа, а потом цементные тротуары, метро и складные ножи. Однако каким-то образом я находил способ оставаться деревенским парнем, так что даже в городе я мог быть сыном Матери-природы – но с плохим характером.
Ребята спрашивали меня: «Где ты был?», а я отвечал: «В Санапи!» Санапи – мистическое индейское название. Я будто прилетал с другой планеты. Возвращаясь в город, я придумывал себе фантастические приключения: я спасся от медведя гризли, на меня нападали индейцы.
– У тебя есть 22-й калибр?
– Что?
А потом начинался пиздеж:
– Меня укусила гремучая змея…
И я показывал шрам от того, как упал летом в камин. Я будто сам верил в собственную ложь; ты врешь, и история разрастается.
– Она на меня ползла, истекая слюнями, на клыках у нее блестела кровь предыдущего туриста.
– Да не гони!
– Нет, правда, она была такой яростной, но я засадил ей промеж глаз своим пистолетом 22-го калибра.
Ну не говорить же мне, что я косил траву и выносил мусор! Девчонкам такое не нравилось, да и парням, которые избивали всех, кто не равнялся с уровнем Бронкса. Я хотел рассказывать о том, как убивал гризли голыми руками, – я был Геком Финном из Адской кухни. У городских все равно были безумные представления о деревне, так что я мог придумывать что угодно, и мне верили. Не забывайте, это был 1956 год. И у Уорда Кливера действительно был сын, не жена, по имени… Бобер.
Мне было около девяти, когда мы переехали из Бронкса в Йонкерс. Я ненавидел, когда меня звали Стивом. В семье меня называли Крошка Стиви, но когда так говорит семья, то это нормально. А вот когда кто-то вне семьи говорит: «Стив», то это отстой. Переезд из Бронкса в Йонкерс (почти такое же ужасное название, как и Стив) дался мне нелегко. Он был слишком белым и республиканским для тощего хулигана из Бронкса. Моего лучшего друга звали Игнасио, и он сказал мне представляться моим вторым именем, Виктор, прямо как мой папа! Этот совет от парня, имя которого звучало как название итальянской сосиски, был просто гениальным. Так что где-то год все называли меня Виктором, дольше это не продлилось.
В Йонкерсе нам жилось хорошо, потому что у нас был свой дом с огромным задним двором, а вокруг был лес. В двух кварталах от этого дома находилось озеро, которое использовалось в качестве водохранилища, на нем мы с друзьями рыбачили все подростковые годы. Там водились лягушки, лососи, окуни и всякие другие виды рыб. В нашем дворе были скунсы, змеи, кролики и олени. В том лесу водилось столько живности, что мы начали ловить животных, снимать с них шкуру и продавать ее, чтобы немного заработать, – это было мое хобби, которому я научился у друзей из 4-H в Нью-Гэмпшире. В пятнадцать лет в одном из детских магазинов я увидел бассейн в виде лодки. Я его купил и плавал в озере с веслами, собирая приманки и блесны, которые путались в водорослях. В итоге я продавал их тем людям, которые сами же их там и теряли. Я стал бешеным псом еще до появления фильма.
В четырнадцать лет я нашел одну листовку в «Жизни мальчика» или в другом журнале о дикой природе, где рекламировали «Ферму диких животных Томпсона» во Флориде. Там можно было купить что угодно – от пантеры до кобры, от тарантула до енота. Маленький енот? Ух ты, мне такой нужен! Я отправил деньги, и его прислали в деревянном ящике, он смотрел оттуда на меня глазами, как на картинах Кин или у японских школьниц из аниме. Я искупал его, посадил на плечо и направился к озеру. И там он по-новому научил меня ловить рыбу. Я назвал его Бандитом, потому что когда его оставляли без присмотра, он либо обшаривал карманы, либо крал всю еду из холодильника. Через год после того, как он разнес весь наш дом, я понял, что иметь в доме дикое животное – не то же самое, что завести домашнее, поэтому мне пришлось держать его на заднем дворе. Их просто нужно кормить, а потом отпускать на свободу. Потому что если все время быть с животными, то они перенимают твою личность – а в шестнадцать лет я был злым засранцем, и это совсем не тот характер, который идет диким животным. Он сорвал все занавески в доме, которые повесила мама. Я любил Бандита, и он изменил мое отношение к убийству животных. В итоге я отдал его одному фермеру из штата Мэн, и там Бандит дожил до глубокой, огромной и толстой старости. А потом он прогрыз себе путь к свободе, то есть электрический провод, и сжег сарай. Его лицо до сих пор висит на стенде самых разыскиваемых преступников Мэна. Так держать, Бандит!
В 81-й школе Бронкса детей каждое утро собирали во дворе.
– Так, класс, построились!
Ровно в 08:15. Однажды утром, когда я был в третьем классе, я увидел в том дворе девочку и, видимо, схватил разбитую лампочку и гонялся за этой девочкой – как сделал бы и любой другой умный (поганец) мальчик, жаждущий симпатии. Это был мой способ доказать, что подростковые ухаживания – это не просто бантики и конфетки.
Я ненавидел, когда меня звали Стивом. В семье меня называли Крошка Стиви, но когда так говорит семья, то это нормально. А вот когда кто-то вне семьи говорит: «Стив», то это отстой.
Ее мама пошла к директору.
– Если Стивена Талларико не вышвырнут из этой школы, я найду своей дочке другую! Он бегал за ней со СМЕРТЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ (бла-бла-бла). Он просто животное!
Я и так был хулиганом школы, и эта ситуация точно не помогла моей репутации. Мою маму вызвали к директору. Меня хотели отправить в школу для непослушных мальчишек и девчонок, сейчас их называют детьми с СДВГ.
– Что? Вы шутите? – сказала мама директору. Моя мама тааак за меня боролась. – Знаете что? Я забираю его из этой школы. Идите на хуй!
Так она не сказала, но зато это говорили ее ГЛАЗА. И она ПРАВДА меня забрала. Меня перевели в школу «Хоффманн» – частную школу в Ривердейле, спрятанную в лесах и, как ни странно, рядом с домом Карли Саймон. Неизвестная мне Карли тоже жила рядом в Ривердейле. Спустя тридцать лет, когда мы вместе давали концерт на Мартас-Винъярде, она мне сказала, что тоже училась в этой школе.
Я был в восторге от школы «Хоффманн», но, приехав туда, я узнал, что там полно «особых детей». Тех, что кричат «Пошли НА ХУЙ!» посреди занятий, с синдромом Туретта, а потому они орали изо всех сил. Я бы сказал, что там было чуть более дико, чем в государственной школе: дети нюхали клей на уроках рисования и рисовали граффити в коридорах… они ели краску и стреляли друг в друга жеваной бумагой. УХ ТЫ, вот это мне подходит!
Там были гиперактивные дети, похожие на меня, – те еще сволочи! Не то чтобы я был таким же. Просто во мне было слишком много итальянского – такого, что заставляет быть громким, самонадеянным, напористым и без тормозов. Но я знал, что если не буду себя контролировать, то за этим последуют блядские причины и следствия, за которые будут бить по рукам. И все же я творил все, что взбредет в голову. Помню, однажды я расчесывал в столовой волосы вилкой! В тот раз я легко отделался, чего не сказать о том случае с поджогом мусорного ведра.
Таким был Бронкс, все равно диким. По пути в школу «Хоффманн» я срезал через поле и перелезал через каменную стену. «Через реку и леса». Там было вишневое дерево, такое толстое и огромное, что было похоже на вяз, и когда оно цвело, это выглядело как взрыв розовых и белых лепестков, как метель. Летом там было полно вишни.
Я бродил за домами и искал, чем бы заняться. Однажды я нашел большую прекрасную кучу грязи, а потом я понял, что это свалка всех домов в этом районе. На эту десятиэтажную гору грязи нужно было взбираться, как на Эверест. Детская мечта! Для меня эта куча грязи была горой – горой Талларико. «Идем забираться на гору», – говорил я друзьям. На вершине был целый акр земли с сорняками и саженцами – а еще гнезда богомолов и всякие другие штуки, до которых никто не мог добраться. Разумеется, я был просто обязан принести домой гнездо богомола. Оно было похоже на то, что у меня между ног, – округлое, крепкое, морщинистое, немного похожее на инжир. Я спрятал его у себя в ящике, потому что думал, что это круто. Через две недели я проснулся с утра, а моя комната кишела маленькими богомолами – их было тысячи! Они просто наводнили мою комнату, нашу двухъярусную кровать, одеяла, подушки, стены и… «Мам!»
Мы открыли окна, выбежали и закрыли дверь. Нечего и говорить – почти неделю я спал в гостиной. Когда мы наконец-то вернулись, они все исчезли.
На вершине той горы был небольшой туннель, который я видел, но никогда не исследовал. Однажды я прополз несколько метров, но там было темно и затхло, так что я решил далеко не лезть. Чем старше я становился, тем дальше залезал. И вот однажды я заполз туда и сказал другу: «Держи меня за ноги!» Потому что в детстве я думал только о том, что это кроличья нора, и в том возрасте я ничего не хотел о ней знать. Позже я заплатил Чеширскому коту миллион долларов, чтобы он стал моим соседом по комнате! Как ни странно, после того как мы съехались, он чуть не лишил меня жизни.
Я был крайне осторожен, залезал все дальше и дальше, светя фонариком, пока друг держал меня за ноги. А нашел я там лишь старую винтовку М1, которую раньше использовали, чтобы держать винный магазин за углом от Нетерленд-авеню, 5610. И вот я взял эту винтовку и пошел по улице домой с ней на плече, как генерал Паттон. И я думал: «Ух ты, что я нашел! Хочу скорее показать маме». Потом она позвонила в полицию и рассказала, где я нашел оружие. В тот день у меня взяли интервью, и я насладился пятнадцатью минутами славы. Это сильно отличалось от парня, который вечно влипал в неприятности. Ну да, я стал героем, когда хотел создать неприятности, но все же… невероятное начало.
Тем временем на ранчо, в смысле, на ферме (прямо как в «Спин и Марти») в Санапи, Джо Перри жил у реки, всего в десяти километрах от меня, рядом с бухтой. Все наше детство он был там, а я был здесь, и мы ни разу не пересеклись. Мы делали одно и то же. Он целыми днями плавал и жил в воде, а река была пиздец ледяной – чуть больше получаса, и твои губы уже фиолетовые. Я выходил из воды и ложился на живот на Дьюи Бич, растягивая руки как крылья и прижимая к груди горячий песок, чтобы согреться, как ящерица на камне. Могу только представить, что творилось с моим сердцем, пока оно боролось с гипотермией.
Но в Санапи все было не так идиллично – там был расизм, а мы были итальянцами. Семья Кавичио устраивала в бухте шоу на водных лыжах. Они привезли его из Флориды. Только они умели прыгать на водных лыжах, кататься на них босиком и тащить за лодкой семерых девочек, которые взбирались друг другу на плечи, чтобы образовать человеческую пирамиду. Но однажды на Дьюи Бич разобрали причал, чтобы Кавичио больше не приходили. Закончилась целая эпоха. Теперь никто не мог пойти на Дьюи Бич и покататься на водных лыжах с причала. Вот только у дяди Эрни был другой план. Он знал, что, как только ты научился кататься, начинать веселее с задницей на причале, а не в холодной воде. Поэтому он построил плот три на три метра, поставил под ним бочки, чтобы он держался на плаву, а по углам – четыре цепи, на конце которых было четыре камня, и так плот оставался на месте. Кто бы ни снес причал, он не мог жаловаться, потому что плот был достаточно далеко от берега и никому не мешал. Но кто-то взбесился из-за такого открытого своенравия. Одной темной ночью он решил взять масло из фритюрницы в одном из портовых ресторанов и размазать его по всей поверхности плота. Он стал таким жирным и вонючим, что никто не мог, да и не хотел вставать с него на водные лыжи. Как странно, что масло из фритюрницы, на котором Джо Перри жарил мою картошку фри, – это та же хрень, из-за которой возникло первое нефтяное пятно на озере Санапи! Это была деревенская версия «Эксон Валдиз»… только слегка вкуснее.
В пятницу вечером я добирался автостопом из Троу-Рико до бухты в Санапи и встречался с ребятами в городе. Надо было найти кого-нибудь, кто мог купить нам пива, а потом мы играли в одну игру – прыгали с одного лодочного домика на другой, как в Нью-Йорке прыгают по крышам, только в Нью-Гэмпшире и по озеру. Правила были такие: к земле прикасаться нельзя, и тот, кто доберется до самого дальнего лодочного домика, получит упаковку «Кольта 45» и девочку, которая сочтет это крутым. Дешевые приключения. В ресторане «Якорная» было три автомата для игры в пинбол, которые светились всю ночь напролет, особенно если там была Элисса Джеретт. Ник Джеретт, ее отец, играл на кларнете в группе с моим папой. Она была самой красивой девушкой в Санапи – а потом она вышла замуж за Джо Перри. Но в «Якорной» она играла всю ночь – она была Волшебницей пинбола!
Мой домик в Троу-Рико был крошечным. Там была двухъярусная кровать, один комод и одно окно, которое закрывалось на цепочку. Я спал на верхней койке, а по утрам папа будил меня, бросая яблоки с яблони. Около семи утра. И неважно, успел я поспать или нет, – проснись и пой. Он не сильно бросал яблоки, но шум получался достаточно громким, чтобы меня будить. Звук и ритм бьющихся о мой домик яблок был для меня чем-то вроде приглушенной музыки, как фоновый стук малого барабана – он всегда напоминал мне о том, как громко должно быть слышно малый барабан в песне.