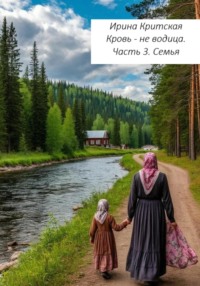Полная версия
Белая ворона. Сборник рассказов

Ирина Критская
Белая ворона. Сборник рассказов
Белизна
Глава 1. Фотография
От чемодана, который Вера, наверное, лет десять не снимала с антресолей пахло пылью. "Надо же"-, раздраженно подумала Вера, – "Как это я! Пылища, вот лень поганая!"
Она сбросила чемодан на идеально вылизанную циновку в прихожей, спрыгнула со стула. "А ведь код не забыла, черт знает что в этих извилинах хранится, всякий мусор". Пальцы между тем безошибочно прокрутили барабанчик и знакомые цифирки сложились как надо. Крышка по-бегемотьи зевнула, выпустив наружу плесневый смрад. Да и не удивительно, плотная, временем спрессованная кожа не пропускала воздух, а вот влагу, затхлость старую крепко держала взаперти под проржавевшим замком.
В ярком свете прихожей матово заблестели обложки старых журналов, на удивление сохранившихся в тряпичном нутре. Под нетерпеливыми Вериными руками забренчали всякие металлические штучки. Сахарные щипцы, странная, с детства знакомая ложка, почему-то двойная, как пинцет или щипцы, крокодил-орехокол, что-то еще, красивое, но давно не нужное, мешающее даже в суматошной, современной жизни. Все это богатство Вера вывалила на пол, отодвинула раздраженно ногой в угол, и в самом углу, наконец нашла альбом. Тот – семейный, давно забытый, тонкокожий, но тяжелый, как кирпич, начинающийся с черно-белых девчонок с длинными косицами, на поверку оказывающимися чьими-то бабками.
Нетерпеливо листая, отмахиваясь от навязчивых родственников и незнакомцев в шляпах, Вера искала одну фотку. Там, на ней были сняты ее одногруппники – по тому самому, любимому, но давно забытому биофаку, годы на котором пролетели, как сон, и только изредка давние и полустертые образы тревожили ее душу.
Вера не любила вспоминать молодость. Может потому, что она жестоко расправилась с тоненькой романтичной дурочкой, упрямо делавшей стрижку "под Матье", ковыляющей на шпильках по любой погоде и шикарно зажимающую в оттопыренных пальчиках вонючую "родопину". Та дура еще писала стихи, обожала ночные дежурства на медрактике, и была уверена в том, что нет ничего важнее любви. Просто НИЧЕГО. И можно ради любви умереть. Запросто…
Умная Вера теперь была худой, как велосипед, циничной и понимающей жизнь. В ее бедноватой, но ухоженной двушке, доставшейся от рано ушедших родителей, давно поселился размеренный порядок и одиночество. Полированная мебель, которую поменять было не по деньгам, блестела начищенным зеркалом, старая румынская кухня отражала в отполированных ручках не менее отполированные кастрюли и чайник. Паркет тоже был отполированным, Вера умела циклевать и лачить его сама и делала это с наслаждением почти маниакальным. Ванная комната напоминала операционную, в ней был приемлем только белый цвет – без исключений. Белоснежную занавеску найти было трудно, но она находила, заменяя ее при малейшей затертости. Даже зубная щетка с белой ручкой одиноко торчала в белом стаканчике рядом с белейшим мылом в такой же мыльнице.
Такой же белой Вера была и внутри. Только не блестящей, как раковина, а мутной. Как будто молоко размешали с мукой и плеснули внутрь нее. Оно разлилось и стерло своей белизной все другие цвета – и яркие – небесные и темные – земные. Не было у Веры чувств. Только четкая рациональность, чистота и тоска. Правда того, что в ней есть эта самая тоска, Вера не замечала.
…Наконец, альбом закончился, но фотографии не было. Каким чудом она исчезла, Вера не понимала, ведь точно была! А вчера она увидела ее на тумбочке нового больного. Ее приперли к стенке стаканом с водой и нижние части ее сокурсников причудливо изгибались. Там, на той фотографии была и Вера. Нежное личико уничтоженной ею девушки – с пухлыми губами, круглыми удивленными глазами, обрамленное рамой тщательно уложенных волос было очень счастливым. Потому что за плечи эту дурочку обнимал парень – кудрявый, как пудель Артемон, длинный и совершенно худой – просто дрын! Вера стащила перчатки, вытащила фотку из-за стакана и внимательно всмотрелась. Они! Точно, ошибки быть не может. Вон, у дуры из оттопыренного верхнего кармана куртки пачка "Родопи" торчит. А у него в руках дурацкий белый тюльпан. Он ей тогда на каждое свидание белый цветок дарил. Один. В зависимости от сезона. Тюльпан. Ромашку. Розу. Хризантему.
Вера почувствовала, как у нее, что-то тоненько тенькнуло в сердце и слегка толкнуло мягким кулачком. Она всмотрелась в худое лицо, сереющее на чистой наволочке.
– Не знаю… кто это? Не узнаю…
Она судорожно натянула перчатки, схватила тряпку с пола, который не домыла, и бросив ее в ведро с грязноватой водой выскочила из палаты.
До конца рабочего дня мысль о фотографии просто преследовала ее. И вот… поиски ни к чему не привели. Фото не было, исчезло бесследно.
Утро в больнице всегда начиналось одинаково. Во всяком случае, для Веры. Длинная вереница палат, которые надо было помыть, колбасообразный коридор с продавленным во многих местах линолеумом, пахнущие, как их не мой, мочой туалеты. Она не помнила, каким образом ей пришло в голову бросить свое НИИ и устроиться санитаркой. Тогда, среди карусели девяностых, таких как Вера было много. Только они пошли дальше, оставив за плечами это безвременье. А она осталась…
В палату, где лежал неузнанный владелец ее фотографии она зашла уже около двенадцати дня. Кровать была пустой, а фото стояло на месте. Вера, воровато оглядываясь опять достала его из-за стакана, положила на тумбочку и разладила пальцем.
– А его на операцию повезли. Ты ничо не трожь, он мне сказал, чтоб я следил.
Скрипучий голос заставил Веру вздрогнуть. Хрустнув до пергаментной твердости накрахмаленным халатом, она обернулась. Плоский, как камбала старик с седой бородкой а ля д'Артаньян, распластался под одеялом так, что она его даже не заметила.
– Да ничего я не трогаю. А вы скажите родственникам, что на тумбе должно быть убрано. Только самое необходимое. А то потеряют что, потом на персонал валят.
Сердце почему-то бешено колотилось. Вера выскочила из палаты и, пробежав по коридору пару метров, остановилась у подоконника отдышаться.
– Давай, помоги, не стой. Видишь, некому, сама везу. Давай-ка. Сейчас Кольку позову из урологии, переложим его. Никакой.
Галина Леонидовна, старшая медсестра отделения, везла каталку. Вера подошла ближе. Лицо с острым профилем стало еще серее, глаза провалились, губы сползли по бокам крупной костлявой челюсти. Просто живой мертвец. Не жилец…
Глава 2. Леша
Что-то такое новое появилось в Верином сознании с того дня, когда привезли Алексея (Лешу, как тихонько, таясь даже от себя самой, она называла его, чуть слышно шевеля губами, когда никто не слышал), такое – острое, колючее, затаенное. По утрам перед работой, яростно намыливая лицо белоснежным мылом, почти давясь плотной пеной, она думала только о тех, последних ступеньках больничной лестницы и нескольких метрах затертого коридорного линолеума, которые отделяли ее от палаты. Потом, смыв пену и до боли растерев лицо вафельным полотенцем, как когда-то советовала ей мать) Вера всматривалась в свое худое, остроносое лицо, пытаясь сравнить его с лицом той – свежещекой, пухлогубой, с пышной шапочкой волос. Не сравнивалось. Не было ничего общего, как будто за несколько десятков лет какой-то неудачливый художник стер ту, смешливую вертушку с грязного, разноцветного холста и, чисто загрунтовав белым холст, тонкой кисточкой нанес контур новой Веры, контур грубый, рубленный, пустой.
Отмахнувшись от мыслей, она быстро собиралась, натягивала привычные джинсы, серый недешевый свитер гладкой шерсти с высоким воротником, затягивала сильно поредевшие волосы в крошечный пучочек, протирала круглые очки и выскакивала на улицу. А потом в равнодушной белизне палат хирургического отделения – мыла, терла, чистила, стараясь, как можно чаще заскакивать в Лешину палату.
Это новое образование в Вериной душе внезапно обострило, вернее, изменило ее зрение. И оно стало совсем другим. Среди ряда привычных вещей Вера угадывала что-то такое, чего больше никто не видел. Например, в простой чашке, стоящей на Лешиной тумбочке, она узнавала ту самую, купленную глупенькой студенткой-практиканткой в маленьком сельпо. Купленную за копейки, оставшиеся от последней стипендии, завернутую в несколько склеенных тетрадных листиков (за неимением упаковочной бумаги) и завязанную гордым бантом из кружев, оторванных от носового платка. Лохматый студент, которому был преподнесен этот царский подарок, долго отогревал замерзшие пальчики студентки, замирая от восторга. А потом, спрятавшись под лестницей, пропахшей столовскими щами гостиницы, они целовались, да так, что кружилась голова, и мир падал в тар-тарары.
… Кружка пожелтела от времени, около ручки тоненьким волоском струилась трещинка, но, в основном, была целой. Ее явно берегли. И Вера, аккуратно, косясь на палатного Лешиного соседа, который следил за каждым ее движением, забирала кружку, стараясь, не дай Бог, не уронить, а потом долго мыла с содой, раз за разом смывая белые потеки с фаянса. И, сидя в санузле на деревянной тумбе, покрытой драной клеенкой, тупо набирала в кружку воду и снова сливала ее, наблюдая, как маленький водопадик исчезает в пахнущей хлоркой дыре раковины…
А еще – Вера видела образы. Каждый раз, когда она подходила к Лешиной кровати, то на подушке, которая даже не продавливалась, вместо эфемерно-фиолетового лица, лежащего на ней лысого привидения – вдруг, в ее глазах, проявлялось смугловатая и немного наглая физиономия с аккуратными усиками и в ореоле кудрявых лохм. Закрытые веки бросали на щеки темные тени от девчоночьих ресниц, а твердый, красиво очерченный рот усмехался. Вера трясла головой, возвращаясь в реальность, проверяла катетер, и простыню, и, плотно подвернув одеяло вокруг угловатых волосатых ног, похожих на лапы кузнечика, уходила домой.
Алексей почти не приходил в сознание около двух недель. Состояние его не улучшалось, однако было стабильным. Родственников у него явно не было, но друзья, приходившие часто и четко по расписанию, денег не жалели. Однажды и Веру прижал в коридоре маленький пузан, почему-то пахнущий рыбой и елками.
Он хозяйски сунул толстую лапу в ее карман, хрустнул там чем-то и шепнул, дохнув по-коровьи в ухо –«Будешь хорошо работать, получишь на порядок больше». Вера растерялась, даже не увернулась, и, досмотрев, как тот мячом докатился до лифта достала из кармана 500 рублей. Хотела выкинуть их в урну, но, вспомнив, что до зарплаты еще три дня оставила.
Дома, налив молока в свою любимую огромную белую фарфоровую чашку и тоненько нарезав батон, купленный в дорогой булочной на честно заработанные деньги, она красиво уложила ломтики в снежно-блестящее блюдечко, украсила натюрморт пастилой и с аппетитом поужинала. А потом, доставая пылесос из кладовки, вдруг нашла потерянное фото.
Только на нем, почему-то не было Алексея. Студентка с Матье на голове – была, все остальные – были. Его – не было! С чего она взяла, что ее обнимал смуглый кучерявец? Вера даже не знала…
– Вера Петровна, там наш больной из тринадцатой в себя пришел. Вы постель перестелите, я там все положила, утку ему принесите, да возьмите из новых, в сестринской, я не разбирала их еще!
Старшая сестра всегда отдавала команды по-военному четко и, если бы не визгливый, пронзительный голосок, не необъятная задница, переходящая в короткие столбовидные ноги, и не наращенные до лысоватых бровок кустистые ресницы, то она вполне сошла бы за ефрейтора.
– Я деда из его палаты поперла, он теперь в десятой. А туда стол привезут сейчас и телик поставят. Да повежливей там, старайся.
Вера молча выслушала и пошла в палату. Сердце почему-то заколотилось где-то у горла. Она постояла в коридоре, потом завернула в сестринскую, захватила утку и, мелко перебирая, вдруг ослабевшими ногами, переступила порог. Ярко-синие глаза казались вставленными неумелым мастером-кукольником в мертвенно-белое лицо. Алексей старался приподнять голову и улыбался. Рядом, на стуле сидел Роман Суренович. Он рассматривал шов на груди Леши и поджимал губы, чуть усмешливо. Такая была у него привычка, когда видел, что все самое плохое позади.
Глава 3. Память
Вере не спалось. Огромная, как сковорода луна светила в окно дико, а шторы были не закрыты, она, как всегда, забыла дернуть за витой шнурок шторины и отгородиться от мира. Вера лежала, глядя в потолок, освещенный лунными лучами, и ей казалось, что там, как на проекторе отражаются сцены из той – ее прошлой жизни. Вдруг, с удивлением, почувствовав, что стерильная ледяная чистота, холодившая ее изнутри, вдруг стала распадаться на осколки, рушиться, как льдинка на апрельском солнце, и что-то горячее набухло внутри, грозясь разорваться и хлынуть, затопив сердце.
Вера – поняла – тогда, тысячу лет тому назад – девочка со смешной круглой головой и котеночными глазками любила Лешу. Того самого – странного, эфемерного, носящего ей белые цветы. Только она не понимала этого слова – люблю. Слово это забытое, конечно, болело внутри нее, жадно толкалось мягкими лапками, грозило задушить нежностью, разорвать страстью и страданием. Но тогда – девочку никто не учил любить. А она, вдруг почувствовав горячий росточек в сердце, испугалась и старательно утопила его в холодной серединке своей души.
Зачем ей нужна была эта любовь? «Странный, смешной мальчик, совсем не умеющий жить», – говорила мама, цинично, как умела она одна, усмехаясь уголком губ, и закуривала очередную сигарету, – «Такие своих жен за жизнь уродками делают. Пахать будешь, как лошадь, копейки складывать в банку из-под кильки. Сгорбишься, облезешь от недоедания. Не дури. Ищи нормального, чтоб все тебе дал. Вон ты какая. Кукла!».
Вера искала. Нормальных было, хоть пруд пруди, один из нормальных жил в соседнем дворе в хорошем новом доме. Папа у него был директор помойки в их городке, а недалеко от этой помойки у него был и особнячок, трехэтажный, кирпичный, с садиком и маленьким парком и с липовой аллеей. Это помимо огромной четырехкомнатной квартиры. Сынок же, уже тогда, в своем ангельском возрасте, был слегка брюхат, смотрел исподлобья и немного искоса, носил кожаную кепку с маленьким козырьком и кожаную куртку, пузырящуюся на его тулове, как надувной пляжный мяч. Он картавил, презрительно тянул слова и поминутно сплевывал. Вера ему очень нравилась. Он каждый день совал ей мятую шоколадку в карман пальто, а потом лапал потными руками, стараясь попасть между юбкой и блузкой. Она разрешала. Хрупкая льдинка у нее внутри от этого не таяла, а наоборот, постепенно увеличивала свои размеры, острила грани. Тем более, что Вере очень нравилась польская софа в огромной комнате Нормального. И шикарный импортный магнитофон. И шоколадки. Она очень любила шоколад, особенно под рюмочку сливочного ликера. После пары рюмочек этого отличного зарубежного напитка с плиткой пористого белого шоколада Вера оказалась на софе Нормального. А потом, укутавшись в белоснежный пушистый халат, внимательно слушала дальнейший расклад своей жизни. И не возражала. Потому что возразить ей было нечего. Нормальный разложил все по полочкам, и Вере понравилось. Особенно ее согрела мысль о маленьком домике в Карелии среди заснеженных елей, который обещал подарить молодой семье помойный папа.
Только вот свадьбу она не помнила. Почему-то – совсем. Помнила только белейший вельветовый рукав мужниного пиджака, кружевной подол своего платья и свинцовые следы от полозьев свадебных саней.
И еще она не помнила маленький белый гробик, который быстро опустили в промерзлую землю и забросали стучащими комьями. Такое лучше не держать в памяти. Особенно "Бабам, не умеющим ничего нормально, даже родить наследника"
Не помнила Вера и развод. Только врезалось в память собственное лицо с кровоподтеком над верхней губой и синими подглазьями, треснувший, как пустая раковина, чемодан, валяющийся на снегу около такси и разбросанные собственные манатки. Которые она собирала дрожащими руками и запихивала под незакрывающуюся крышку…
Вера прокручивала пленку все быстрее и на потолке мелькали кадры. С каждым новым кадром ее лицо становилось все старше, волосы все длиннее и реже, нос все острее. Оттуда, с потолка на Веру смотрела уже худая грымза с гладко зачесанными в пучок волосами, жилистой шеей и острыми глазками. Вера почему-то не узнавала ее. А та – Веру узнала.
Рассвет уже начал пробиваться сквозь низкие тучи, плотной завесой прибившиеся к земле и спрятавшие луну, когда Вера встала и, кряхтя, как старуха, доплелась до гардеробной. Достала чемодан – тот самый, с плохо закрывающейся крышкой – пошарила. Фотография была на месте. Но, что самое странное – на месте был и Лешка. Он усмехался оттуда, откинув кучерявую голову и подмигнул Вере. Ласково…
Вздрогнув и перевернув фото, она пошла на кухню и грузно, если можно так сказать про костлявое тело, опустилась на стул. Налив воды, жадно выпила пару глотков, всхлипнула и окончательно проснулась. Сегодня был выходной, она собиралась вычистить квартиру до скрипучего блеска и сходить в кино. Вера любила пойти на дневной сеанс, посмотреть что-нибудь не очень умное и выпить чашечку кофе с миндальным пирожным в кафе.
Зазвонил телефон.
– Слушай, Верк. Не поверишь! Он пропал!
– Кто?
Вера слушала голос старшей, он звучал глухо, как из преисподней.
– Ну этот! Из тринадцатой. А ведь прям не жилец был.
– Как исчез?
– Да так. И тебе письмо передал. Приходи…
Глава 4. Работа
Вера влетела на этаж так, что сама чувствовала ветер за своей спиной, много лет она уже так не бегала. Быстро несясь по коридору, ловя на себе удивленные взгляды старшей и врача, она понимала, что расхристанная в спешке одежда и неподобранные, редковатые космы делают ее похожей на бабу Ягу. Еще немного, и она бы могла пролететь на швабре, стоявшей в углу около туалета, но приоткрытая дверь палаты не дала ей совершить этот, последний маневр. На гладко убранной кровати не было не складочки. Тумбочка тоже была идеально вытерта, и, если бы не письмо, валяющееся несколько небрежно, то можно было подумать, что это не палата, а казарма, солдаты из которой только что были выгнаны на плац. Вера схватила письмо и рванула его, чуть не располосовав пополам. Там было всего пара строк. «Вера, если не хотите потерять шанс, позвоните». И номер телефона.
– Смотри, видала, как кровать убрал? Ведь не было никого…Сам что ли? А вроде чуть дышал.
Старшая медсестра стояла сзади, подбоченясь, как бабка на базаре и с интересом смотрела на взъерошенную нянечку.
– Что это тебя? Коты драли?
Вера невидящим взглядом окинула палату и, молча подвинув плотное туловище старшей, вышла.
…
Телефон ответил сразу, как будто там, на другом конце линии, сидели и ждали ее звонка.
– Я вам говорил, Вера, что вы можете заработать. Очень хорошо заработать. Теперь ваш шанс, не упустите. Он очень хорошо платит. Очень.
Вера выслушала хриплый голос и перед ее глазами встал тот, надушенный елками рыбный пузан, который сунул тогда ей непривычную сумму. Это точно был он, не спутать. Она, почему-то очень испугалась. И молчала.
– Делать надо совсем немного. Первое – поселиться у Алексея. Второе – ухаживать. То есть мыть, переодевать, кормить. Готовить, убирать квартиру, стирать, гладить, короче выполнять домашние дела не надо, там своя прислуга. Медицинские назначения будет выполнять медицинский работник. Работы мало – оплата огромная. В день, а оплата ежедневная, вы будете получать…
Он назвал сумму, которая была баснословной. Поработав так хотя бы год, Вера могла бы исполнить свою заветную мечту – купить крошечный домик у моря с видом на прибой и абрикосами, персиками и мандаринами в садике, поступить на работу в местную больничку и забыть навсегда сумрачное лето и бесконечную зиму родного ненавистного городка. Но даже не это главное. Глядя тогда на бледное лицо своей забытой любви, Вера вдруг поняла, что она еще жива. И та, нежнолицая девочка просто спрятана в теле костлявой, старой, равнодушной ко всему курицы, как иголка в яйце утки. И надо только разбить скорлупу…
– Вы согласны?
Голос из хриплого вдруг стал противно тоненьким, даже заверещал, Вера вздрогнула и стала быстро записывать все что ей пищала трубка, испещрив лист своего пухлого блокнота тоненьким бисерным почерком. Как будто на снег спустилась стая воробьев…
…Чемодан так оттягивал руку, что Вера присела на лавку в полуразрушенном автобусном павильончике. Вокруг не было не души, первый легкий снежок присыпал противную, фекального цвета глину, которая была в этой местности проклятием, превращая в непролазные топи все, чего коснулась вода. Если бы не снег, то окрестности бы страшили, насколько необитаемыми они казались – пустота и редкие ряды хилых деревьев вдали, низкое небо и ряды ворон на проводах. Там, за деревьями, можно было разглядеть какое-то строение, похожее на развалины дворянского гнезда, но снежок усилился, превратившись в небольшую метель и застил взгляд. Автобус скрылся в снежной завесе, и Вера вдруг подумала – а вдруг за ней никто не приедет? Телефон почти не ловил, сеть была, но хлипкая и неуверенная и от малейшей попытки в нее влезть пугливо пропадала. Вера замерзла, съежилась на лавочке, стараясь натянуть ворот свитера как можно выше на нос и закрыла глаза. Попала…Замерзнет теперь здесь, найдут через пару дней. Руки уже оледенели, кончики пальцев ног тоже почти не чувствовали. И, когда, что-то похожее на отчаяние стало холодными пальцами пробираться по позвоночнику, рядом завизжали тормоза. Белоснежный микроавтобус, почти не заметный на фоне пурги, затормозил, как будто встав на дыбы.
Открылась автоматическая дверь, водитель молча и терпеливо смотрел, как Вера, пыхтя втаскивает чемодан внутрь. И даже не попытался помочь.
Доехали они быстро. Уже темнело, в снежном мареве, как в сказке раздвинулись огромные ворота, по блестящим от чистоты плитам они пронеслись до особняка и только огромные ели вздрагивали лапами, роняя легкую крупу, сверкающую в свете ярких фонарей.
Особняк был похож на Ласточкино гнездо – такой же белый, такой же устремленный куда-то в небо, но в темнеющем воздухе он как-то таял, терялся, пропадал, казался призрачным. Вере даже стало казаться, что она не сумеет наступить на вычищенную ступеньку, насколько эфемерно прозрачной и ускользающей она была. Однако все получилось, Вера вперла чемодан на самый верх шикарного изогнутого лирой крыльца. «Парадная», мелькнуло у нее в голове забытое слово, но тут тяжелые резные двери разъехались в стороны. Вера протянула свою ношу дальше, и тут кто-то взял чемодан у нее из рук…
– Пожалуйста проходите. Постарайтесь не очень следить, здесь светлый паркет, вставайте на ковер. Прислуга уже ушла, протрут только завтра.
Высокий блондин в нежно-бежеватой униформе, с лицом удивленной крысы, чуть поддерживал Веру сзади за локоть.
– Я вас провожу, хозяин уже спит, вы сегодня ему не понадобитесь.
Они пробежали по полутемному особняку, поднялись по какой-то узенькой лестнице с крашеными белой масляной краской деревянными перилами, оказались в маленьком коридорчике с низкими белеными сводчатыми потолками. Блондин, позвенев здоровенной связкой ключей, открыл дверь комнаты, которая была единственной в этом отсеке.
– Ужин у вас в комнате, под салфеткой. Удобства за дверкой, скрытой за ширмой. Подъем в шесть утра. Здесь никто никого не будит, пожалуйста самостоятельно. Спуститесь вниз на два пролета, там столовая для прислуги. Рабочий костюм в гардеробе. Опоздание лишает вас суточного заработка. Спокойной ночи и хорошего отдыха…
Блондин улетучился, растворившись подобно летучей мыши. Вера села на твердую, застеленную белым покрывалом кровать. Ей хотелось и бежать отсюда, и плакать…
Глава 5. Белизна
Утро было таким пасмурным, что при включенном свете казалось, что за окном ночь. «Хотя, в это время и есть ночь», – вдруг подумала Вера, – «Вон, звезды, размером с чайное блюдце смотрят в окошко, аж страшно». Она, почему-то почувствовала себя молодой – странно непривычно легкой и свободной, даже захотелось сразу посмотреть в зеркало, а вдруг там растрепалась ее пышная, модная стрижка. Из зеркала на Веру глянуло и вправду, какое-то другое лицо – чуть меньше круги под глазами, чуть светлее кожа, чуть ярче губы. «Вот, что значит зеркала дорогие», – усмехнулась она, привычно стягивая тусклые пряди на затылке и нащупывая на тумбе очки. Быстро умывшись и приняв душ, ощущая на теле нежный нарциссовый аромат незнакомого мыла, Вера натянула костюм. Он был ей совершенно по размеру, мало того, как будто подогнан, ведь узкие плечи, отсутствие талии, и слишком высокие бедра при длинных худых ногах, делали ее фигуру проблемной и она всегда переделывала свои вещи, подслеповато щурясь над старенькой швейной машиной. А тут – точно. Белые прямые брюки, белая блуза со слегка серебристой отделкой по кантам, сидели отлично. Прилагалась еще и шапочка, наподобие шапочек медсестер в старых фильмах – чудом державшаяся на затылке, но Вера надевать ее не стала – сунула в карман. Быстро пробежав по коридору по указанному вчерашним блондином маршруту, она влетела в ярко освещенную столовую и от неожиданности вздрогнула. Все было белым. Столы, посуда, прилавок буфета, занавески, люстры – все. И по этой снежной белизне двигались бело-серебристые тени – у каждого из прислуги костюм был в тех же тонах.