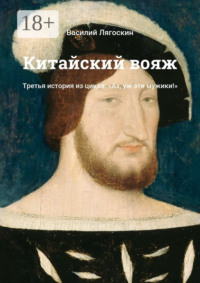Полная версия
Ах, уж эти мужики! Что бы вы без нас, женщин, делали…
Она даже махнула рукой, прогоняя строки, которые ей прямо в ухо твердили другие богини, заведовавшие осторожностью и благоразумием:
Как много у людейЗатей,Которые еще опасней и глупей!– Ничего не надо, – оживилась богиня, – я сама все сделаю. Ты возвращайся в грот, и ложись. Постарайся заснуть…
Валентина Степановна кивнула, и пошла ко входу в пещеру – что называется, от бедра, чувствуя, как прославленная в легендах богиня смотрит ей вслед с изумлением, а потом и завистью. Увы – глаз на затылке у нашей героини не было; пятерка других вообще никаких глаз не имела; пользовалась Валиными. Потому они не увидели, как губы Афродиты – в тот момент, когда Кошкина чуть пригнулась, чтобы не стукнуться общим на шестерых затылком о низкий свод входа в пещеру – скривились в какой-то хищной усмешке…
– Галатея, – потрясенно прошептала Кошкина, – само совершенство!
А потом ее (точнее, совсем не ее!) уста, открылись неимоверно широко, чтобы исторгнуть из себя слитный ужас, сотканный из шести… нет! – семи воплей: «Не-е-ет!! А-а-а!!!». Потому что вот она, Галатея, стояла перед ними в своей обнаженной молочно-мраморной красоте, а сама Валентина подпрыгивала сейчас на широченном ложе в теле какого-то мужика. И для того, чтобы убедиться в этом, ни ей, ни царственным эллинкам, ни Ярославне с Дездемоной, ни юной Дуньязаде не нужно было нырять чужими руками в чужие же штаны, и шарить там в попытке оценить… потому что никаких штанов не было; мужик скакал вместе с ними на широченной кровати совершенно обнаженным. И вместе с его телом болтался вверх-вниз…
– Какой он маленький, – первой хихикнула как раз Дунька, явно вспомнившая кого-то из своего далекого прошлого – меньше даже, чем у…
– Да! – наперебой стали восклицать остальные подруги, заставив Валентину запунцоветь от стыда, а потом и гордости, – не то, что у нашего Витеньки.
Впрочем, ярко-пунцовыми стали щеки не ее, а мужские, покрытые чуть колющейся щетиной.
– Что значит маленький! – вскричал царь, – и кто этот Ви-тень-ка, которого я сегодня же прикажу посадить на кол.
Валентина, прежде чем взять под командование этот мужской организм, сейчас бестолково размахивающий руками в бессильной ярости, немного посомневалась:
– Посадить на кол… это что-то явно из древнерусского. Или греки тоже не чурались таких фаллических символов (вот что я теперь знаю!)?
Подруги меж тем сомнений не испытывали. Они наперебой подначивали царя, почти требовали у него:
– А ты покажи, покажи! И докажи! На словах вы все герои.
Пигмалион лишь ошалело переводил взглядом внутри себя с одного хохочущего лица на другого; дар ли его, или каприз Афродиты, позволял ему видеть сейчас хорошенькие физиономии. Но эта картинка, способная возбудить любого нормального мужика, заставила его проморгать движение рук затейницы Дездемоны. Сейчас именно она взяла на себя командование телом, ухватившись за невеликий отросток, и принявшись мучить его, совершая поступательно-возвратные движения. Валентина сподобилась скомандовать лишь подбородку царя, отвисшему практически до груди, да еще поправить подружку: «Не возвратные, а развратные!». Теперь она в полной мере прочувствовала, каково было (и есть) находиться в чужом теле, и порою следовать событиям и поступкам, которые тебе совсем не нравятся.
– Постой! – сказала она себе, а потом и всем остальным, – а разве Афродита не у меня просила разрешения на этот эксперимент; разве не меня она назначила «любимой женой» этого вот сморчка?!
И сразу все стало на свои места. Тело опять готово было выполнять лишь ее команды; шаловливые ручки оторвались от мужского «сокровища», и сплелись на голой груди. Правая царская ножка чуть выступила вперед, а грудь наполнилась воздухом, и вполне заметной спесью, с какой монарх и должен был встречать своих подданных. Зычный голос призвал в царскую опочивальню с десяток прислужниц, на которых сам Пигмалион никак не отреагировал – не дрогнул ни душой, ни телом. Валентина лишь усмехнулась, а потом (пока царь давал распоряжения насчет завтрака) повернулась внутри монаршего тела к хихикнувшей рядом Дездемоне.
– Что? – задала она короткий вопрос.
– Сдается мне, – оглядела сразу всех подруг венецианка, – что мы здесь задержимся.
– Почему?! – воскликнули сразу три, или четыре женщины; лишь Кошкина, уже начавшая догадываться о причине нервного веселья Дездемоны, слушала ее молча.
А та, разразившись еще одним коротким смешком, напомнила всем:
– Вспомните – как; в какой момент наш Николаич возвращался в свой мир. Какой «ключик» открывал дверь в двадцать первый век? Здесь такой ключ не работает. Лично убедилась.
Она поднапряглась, и выудила из памяти Валентины подходящие случаю строки:
Орехи славные, каких не видел свет;Все на отбор: орех к ореху – чудо!Одно лишь худо —Давно зубов у Белки нет.И она подняла на уровень глаз Пигмалиона его же руки, на которые умелые служанки (или рабыни) тут же накинули какую-то одежку. Служанки, кстати (в иносказании Крылова «орехи») действительно были все «на отбор» – красавицы, ядреные и… готовые на все. Но, увы – «беззубой Белке», царю, от них нужны были лишь царский хитон, да золоченые сандалии. Ничто – ни в душе, ни в теле так и не восстало.
– Древнегреческие одежки, между прочим, – тут же хором опознали Кассандра с Пенелопой, – а ты, дружок, что знаешь о войне, которую ведут полисы с Илионом?
– Идет, – неохотно процедил Пигмалион, – где-то там.
Он махнул рукой куда-то в сторону восхода солнца, ничуть не собираясь конкретизировать собственное отношение к этому затяжному конфликту.
– А ты, значит, здесь сидишь, – с осуждением заявила Пенелопа, больше всех пострадавшая в свое время от этой войны, – в куколки мраморные играешь?!
– Это не кукла, – вскинулся царь, – это идеал красоты. И когда-нибудь она оживет, и лишь с ней я познаю сладость страсти; только она, моя Галатея, сможет родить наследника моего трона.
– Долго ждать придется, – жестко поставила крест на его мечтаниях Валентина, – тебе свою Галатею, а нам – возвращения домой, к мужу, и всяким плюшкам двадцать первого века. Ну, веди, мечтатель, корми нас. И себя заодно…
Завтрак был великолепным; поистине царским. Пигмалион не по-детски страдал от своей неосуществимой пока мечты, но и от маленьких радостей жизни не отказывался. Потом, отвалившись вместе с новыми хозяйками его тела от низкого стола, на котором неопробованным не осталось ни одного блюда (а что вы хотели – семь сотрапезников; семь вкусов, и семь аппетитов, совсем нешуточных), велел позвать к себе управляющего.
– Премьер-министра, – перевела для всех Валентина.
Пока рабыни убирали со стола (и сам столик), царь громко похвалялся своим ближайшим помощником, Монодевком. Упирал при этом на его ум и честность. Валентине, немного заскучавшей, пришли в голову очередные строки, которыми она тут же со всеми поделилась:
Осел был самых честных правил:Ни с хищностью, ни с кражей не знаком…Пигмалион обиженно замолчал, а подружки, залившиеся было хохотом, внезапно замолчали. И было отчего – означенный Монодевк действительно был похож на трудолюбивое животное; настолько, что Валентина каким-то вывертом памяти выудила из далеких школьных годов легенду о Минотавре. Только там гроза лабиринта был рожден от невероятной любви женщины и быка, а тут явно не обошлось без какого-нибудь современного Иа. Эта мысль тоже стала общей; поклонившегося своему господину «министра» встретил смешок, жизнерадостный настолько, что привыкший к меланхолии царя Монодевк с изумлением всмотрелся в его лицо. В царской физиономии все было на месте – и рот, и нос, и губы, готовые объяснить, зачем царедворец понадобился в столь ранний час. Только глаза были чужими – острыми, холодными, оценивающими. Они словно расчленили царедворца на две половины. Меньшая, которая сейчас раболепно улыбалась царю, действительно тащила на своих плечах все тяготы царской власти. Вторая, лицо которой Монодевк не разрешал показывать даже себе, даже в полной темноте, сейчас взвыла в нехороших предчувствиях. Министр вдруг понял, что лафа кончилась; что полноводный поток золота, который тек в его личные карманы, вот сейчас обмелеет.
– А может, – подумал он, холодея, – начнет работать в обратную сторону, да так, что не остановится, пока не обмелеют все мои закрома.
– Так и будет, – возвестил кто-то (царь, но чужим голосом), – а пока давай, рассказывай – что разузнал?
Это уже сам Пигмалион вопрошал о своем главном задании – разузнать все о способах оживления камня. И надежды его оправдались. Вытянутое книзу лицо министра вытянулось еще сильнее; рот открылся, показав крупные, чуть желтоватые зубы. Так царедворец показывал свою улыбку. Впрочем, он тут же стал деловитым, начал перечислять легенды, и вполне реальные случаи (как он сам утверждал) подобных чудес. И главным в каждом из таких чудесных превращений было непременное условие – добровольная жертва женщины, готовой отдать свою жизнь ради прихоти царя.
– Абсолютно добровольное, – Монодевк, наконец, замолчал и поклонился до самого пола.
Он готов был покинуть государя, оставить его с милыми сердцу камнерезными инструментами, и стуком стали о мягкий мрамор. Кто бы ему это позволил?! Женщины внутри царского тела загнали перепуганного, на все согласного Пигмалиона куда-то в район пяток, и делегировали его полномочия русской княгине Ярославне, которая тут же хлопнула министра по тощему плечу, и скомандовала:
– Ну, пойдем, милок – показывай МОЕ хозяйство.
Валентина прокомментировала: опять строками из басни:
В ком есть и совесть, и закон,Тот не украдет, не обманет,В какой бы нужде ни был он;А вору дай хоть миллион —Он воровать не перестанет.Остальные девушки хихикнули, и принялись обсуждать известие, принесенное Монодевком. При этом они не столько вслушивались в слова Ярославны, наливавшейся яростью тем сильнее, чем глубже она вникала в милые сердцу хозяйственные дела, сколько вглядывались в лица кланявшейся им (царю и его ближайшему сподвижнику) дворни. В глазах придворных, слуг и рабов они читали все – и страх и уважение к ловко пристроившемуся при дворе Монодевку; и равнодушие, переходящее в откровенную издевку над глуповатым царем, не видящим ничего под собственным носом. А его увлечение презренным ремеслом – поняла Валентина – большинство считали не просто блажью, а откровенной глупостью. В этих взглядах не было только любви; а значит, и жертвенности.
Наконец, всей толпой они ввалились в храм. В тишине и полутьме их встретила богиня, Афродита. Как и Галатея, она была молочно-белой и холодной; невосприимчивой к молитвам, несмотря на богатые дары, сложенные у ног статуи. И только оглянувшись от выхода, одарив равнодушным взглядом прислужника, с трудом придерживавшего тяжеленную дверь храма, Кошкина разглядела на устах богини Любви торжествующую улыбку. Она ответила ей; ответила яростным взглядом, и сразу двумя дулями, сложенными из пальцев чужих рук: «Накося, выкуси!». И каким-то чудом поняла, что мраморная богиня восприняла ее порыв; не устыдилась, но устрашилась.
– То-то! – усмехнулась Валентина, не сразу сообразив, чем это командовала теперь Ярославна, откомандированная для ведения скучных, но таких важных хозяйственных дел. Как оказалось, устами царя она уже успела скомандовать соорудить весьма примечательное сооружение. Виселица из свежеструганных бревнышек ждала понурившего голову Монодевка.
– Вы что! – Валентина набросилась на подруг, кровожадно потирающих невидимые руки, – живого человека, и повесить?! Без суда, и следствия? Не дам. Тем более, что мы… в смысле местный царь виноват не меньше.
Но, кажется, не прав и тот,Кто поручил Ослу стеречь свой огород.– Ну, не дашь, так не дашь, – покладисто согласилась княгиня; остальные кивали рядом, – ему же хуже будет.
Пигмалион, покорный ее воле, вяло махнул рукой, и не сопротивляющегося министра (бывшего, конечно) быстро уволокли стражники. А Ярославна пояснила:
– В каменоломнях он сам скоро пожалеет, что остался жив. Ну, а добро, что он украл у государства, уже в казне.
Валентина, к изумлению подруг, обнаружила затесавшуюся когда-то в голову крылатую фразу: «Государство – это я!». Кто из бывших, или будущих государей первым произнес эти слова, Валя так и не вспомнила, но Пигмалион явно воспринял их на собственный счет. Непривычно оживленный и энергичный, он подхватил под локоток русскую княгиню (прогресс, однако) – в собственной душе, конечно, – и воскликнул:
– Куда мы теперь?!
– Как куда? – остудила его порыв Кошкина, – в столовку, конечно. Война войной, а обед по расписанию.
Царь на «войну» поморщился, явно приняв эту фразу за намек на собственное дезертирство с Троянской войны, и безропотно дал увести себя в трапезную. Обед был еще шикарней; бесконечную вереницу блюд наша великолепная шестерка так и не осилила; царь же вообще потерял аппетит. Когда же насытившиеся и пресытившиеся едой красавицы напали на него, он нехотя объяснил свою меланхолию:
– Уже половина дня прожита, и прожита впустую. Я ни разу не взял в руки молотка, не отсек от мертвой глыбы мрамора ни крошки. Что я оставлю потомкам? Легенду о том, что эллинский царь сошел с ума, вообразив себя женщиной… да не одной, а сразу шестью.
– А что ты имеешь против женщин?! – Кассандра первой подперла бока чужими кулаками, жирными от яств, которые непосредственная во всем Дуньязада украдкой пыталась ухватить царскими руками, – предрекаю: ни одна статуя не выйдет из-под твоего резца до тех пор, пока ты не отправишь нас домой!
Остальные девушки захихикали; вспомнили, как часто сбывались пророчества подруги. Но выдавать ее не стали, поскольку в одном были солидарны с ней – рано или поздно им наскучит в этом мире; даже в облике местного владыки. Дездемона еще и об обещании Валентины вспомнила – о Миланском доме моды…
Чтобы привести дела царства в порядок, какого никогда не видели окрестные полисы, Ярославне понадобилось не больше месяца. Сам Пигмалион меж тем все больше хирел; он забился в самый дальний уголок собственной души, и там безмолвно страдал. Лишь изредка подруги вспоминали о нем, и выволакивали на свет божий, да на собственный суд, суть которого Валентина выразила очередным шедевром баснописца:
На свете много мы таких людей найдем,Которым все, кроме себя, постыло,И кои думают, лишь мне бы ладно было,А там весь свет гори огнемТело эллинского царя в это время нежилось на ложе; открытое настежь окно доносило далекий шум волн и приятную свежесть моря. Еще в это окошко заглядывал самый краешек луны, в свете которой таинственно улыбалась Галатея. Пенелопа, которая в своей жизни имела долгий печальный опыт ожидания любимого человека, внезапно вскочила (вместе со всеми остальными), и подхватила с пола молоток скульптора, который лежал у кровати постоянным напоминанием о пророчестве Кассандры.
– Ах ты, тварь! – воскликнула она, замахиваясь на оточенные линии женского тела, воплощенные в мраморе, – сейчас расколю тебя на части, и решу тем самым проблему…
– Или создашь новую, – остановила общую руку благоразумная Ярославна, – кстати, а почему мы оказались именно здесь? При чем здесь русский баснописец? Слыхал ли он когда-нибудь вот об этом недоразумении?
Свободная рука Пигмалиона огладила себя от головы до нижней части торса, чуть не добравшись до главного «недоразумения» собственного организма.
– А действительно, – удивилась вслед за ней Валентина, хватая испуганного царя за шкирку, – давай – колись, какой такой баснописец твоего времени связан незримыми нитями с Крыловым; кто мог притащить нас сюда… без нашего на то согласия?
– Не знаю? – пискнул Пигмалион, не пытаясь вырваться из крепкой руки, – может быть… Эзоп.
– Эзоп..? – протянули сразу несколько нежных голосочков, – ну, давай, рассказывай.
Царское тело опять заняло свое место на ложе, кокетливо отставив в сторону ножку, и задумчиво уставившись на молоток в руках. А через несколько долгих минут Пигмалион открыл рот и начал вещать. Никакой рифмы в его (точнее Эзоповых) баснях не было. Искусство ваять скульптуры обнаженных женщин – вот единственный талант, которым наделили царя боги. Декламатор из него был никакой; так что Валентина скоро не выдержала, и перебила его – естественно, строками из более близкой ей басни:
Бывает столько же вреда.КогдаНевежда не в свои дела вплететсяИ поправлять труды ученого возьмется.Сразу пять слушательниц шикнули на нее, и велели Пигмалиону продолжать – до тех пор, пока Дездемона не перебила его, воскликнув жарко и победно:
– Вот! Повтори последнюю историю!
Царь покорно повторил:
– Басня «Коварный». О том, как коварный мужчина пришел к оракулу с намерением посрамить его. С воробьем в кулаке и вопросом: «Что у меня в руке – живое, или не живое?».
– Ага, – перебила его нетерпеливая Дуняша, – живое – если выпустить воробья, и мертвое, если посильнее сжать кулак! У нас тоже была такая сказка.
– Дальше, – перебила ее венецианка, – давай, парень, разродись моралью басни.
Пигмалион «разродился» – опять без всяких рифм:
Полно, голубчик!Ведь от тебя самого зависит,Живое оно, или неживое– Вот! – опять первой воскликнула Пенелопа, заставив вскочить царя с ложа, – понятно?
Все (включая самого Пигмалиона) дружно замотали головой, и уставились на царицу Итаки. И та торжествующе засмеялась.
– Никто – ни боги, ни колдуны нам не помогут. Только мы сами в состоянии взять себя за шиворот, и забросить обратно – в грот, где нас уже заждался Витя. Согласны?
– А что бы можем? – в устах русской княгини этот вопрос прозвучал непривычно жалобно.
– Я могу станцевать! – пискнула прежде других арабская принцесса.
Валентина вполне ожидаемо, хотя и непроизвольно, скомандовала:
Так поди же, попляши!Она сама вплела в этот танец собственные надежды, и любовь к далекому, заждавшемуся ее мужу. Как и другие красавицы тоже. И один «красавец». Душа Пигмалиона не выдержала натиска чувств, которыми сейчас щедро одаривали мир его новые, непрошеные знакомые. Он – как когда-то Кошкин – «заразился» волшебством танца, добавил в него, а значит, и в окружающее пространство свою энергию. И эта капля переполнила какую-то чашу, полную чуда; в мир щедро плеснуло, прежде всего, на застывшую в своей молочно-лунной красоте статую. Безжизненные многие годы глаза Галатеи вдруг зажглись огнем; а мрамор, который должен был осыпаться пылью при малейшем движении, стал теплым и мягким. Руки этой красавицы протянулись к возлюбленному; она явно готова была тоже закружить в танце. Но не успела – Пигмалион сам шагнул к ней без всякой команды со стороны, и заключил ее в объятия. И было это объятие настолько теплым, и убаюкивающим; усмиряющим неистовую энергетику пляски, что Валентина невольно закрыла свои глаза (которых, вообще-то здесь, в эллинском царстве, не было). Закрыла со словами из басни:
Со светом Мишка распрощался,В берлогу теплую забрался,И лапу с медом там сосет,Да у моря погоды ждет…– У моря, – улыбнулась Валентина, обнимая Галатею покрепче, – у самого Средиземного моря!
– Блин, Валя, – воскликнула дернувшаяся в руках «Галатея»; воскликнула голосом любимого мужа, – ну, я еще понимаю – расцарапать спину до крови ногтями. Сам люблю тебя так же сильно. Но чем ты теперь меня?!
Валентина, а с ней еще пять женских сущностей в изумлении не только сами вскочили на ноги, но и подняли не такого уж легкого Кошкина. И принялись вертеть его; прежде чем прижать к необъятной груди.
– Дождались, – шептали губы сразу шестерых красавиц, – дождались «у моря погоды».
А счастливый не меньше их Николаич покорно принимал ласки; только чуть опасливо косился на правую руку супруги, в которой был зажат неведомо откуда взявшийся молоток…
Примечание: В тексте шрифтом выделены отрывки из басен Ивана Андреевича Крылова.
2. Стихи о прекрасных дамах
Голос, зовущий тревожно,Эхо в холодных снегах…Разве воскреснуть возможно?Разве былое не прах?Валентина не задавала себе таких вопросов. Она лечила свою нервную систему – целую неделю. А вместе с ней «лечились» и все пять красавиц в ее душе. Хотя, что им-то было переживать? – они были опытными путешественницами во времени. И рисковали не собственными шкурами.
– Скорее всего, – догадалась, наконец, Кошкина, – это они меня так поддерживают. Жалеют, несчастную.
«Жалели», кстати, все вокруг – весь отель; и обслуживающий персонал, и отдыхающие британцы, и любимый муж. Это после того, как Валентина, находившаяся в первый день после путешествия в далекую Элладу под особо сильными впечатлениями, устроила грандиозную головомойку английской семье, пробормотавшей вечное «Мо-о-онинг» без должной почтительности.
Так что все передвигались по коридорам перебежками; уверившись, что грозная «русская миссис» отсутствует в пределах слышимости и видимости. И на пляже рядом был лишь Виктор Николаевич, да несчастный юноша-слуга – тот самый, что однажды осмелился опрокинуть на чарующую плоть Валентины Степановны полстакана коктейля со льдом…
Валя послушала, как весело стучат о стенки очередного бокала кубики льда, кивнула, и позволила себе, наконец, признаться, что никакие нервы у ней не страдают. И что гнетет ее все последние дни единственный вопрос: «И что дальше? Куда мы теперь с вами, подруги… «дней моих суровых»?
– Как куда? – первой удивилась неугомонная Дездемона, сильнее других «страдавшая» вместе с подругой, а теперь одним мгновением сменившая тон ангельского голосочка с печального, даже трагического, на восторженный, предвкушающий приключения, – в новое путешествие! Предлагаю сегодня же лететь в Венецию. Там я, девчонки, расскажу вам пару удивительных историй… и покажу, где меня в первый раз…
– Ага, – сварливо вступила в разговор Пенелопа, – а они, эти истории, тоже как-то связаны с маврами?
Нежный голосочек Дуньязады, присоединившейся к полемике, казалось, звенел от возмущения:
– А что вы имеете против мавров? Они, кстати, в каменные статуи не влюбляются; предпочитают живых принцесс. Так что милости прошу в наши края…
– Девочки!!! – Валентина одним мощным рыком внутри себя не дала разгореться ссоре, от которых отдыхала всю последнюю неделю, – давайте без этого… куда нам ехать, и кого искать, решим общим голосованием. Но точно не к тебе, Дуняша; не в Багдад. Там сейчас знаешь, что творится? Включи телевизор – каждый день новый террористический акт.
Кошкина действительно нажала на кнопку пульта (этот удивительный разговор продолжился уже в люксе, на необъятной кровати, с краешка которой примостился Николаич со своим ноутбуком); огромную комнату заполнили волшебные ритмы фламенко. Шестерка красавиц замерла, очарованная неистовой мелодией и стремительными движениями танцовщицы. В голове же Валентины одновременно зазвучали не менее волшебные строки:
Они звучат, они ликуют,Не уставая никогда,Они победу торжествуютОни блаженны навсегда.Пелена очарования спала с общих на шестерых красавиц глаз очень быстро – вслед за хмыканьем Виктора Николаевича. Ученый историк, он же танцовщик, какого еще надо было поискать (и вряд ли можно было найти в целом мире!) оторвался от своего компактного компьютера, и принялся комментировать танец на экране, в котором – по его словам – ошибок было больше, чем клопов в матрасе.
– Какие клопы?! – вскочила было с кровати Валентина, – откуда они тут?!
– Да не здесь, – успокоил ее Николаич, на всякий случай принявший низкий старт для побега (он еще не прочел в голосе любимой женщины, что недельная гроза миновала), – это я свои студенческие годы вспомнил. Так вот тогда, на дискотеках, мои однокурсники лучше отплясывали.
Он еще раз презрительно хмыкнул, и опять уткнулся в маленький экран. На большом продолжала развевать юбками смуглокожая испанка, но Валентине было не до нее. Как и до той невероятной мысли, что ее Витенька, оказывается, когда-то ходил на дискотеки (пусть до знакомства с ней, но что это меняло?!). Потому что она, наконец, задала вопрос, мучивший ее уже несколько дней: