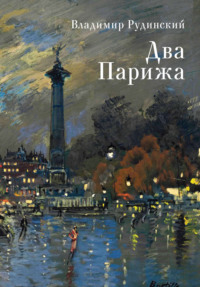Полная версия
Мифы о русской эмиграции. Литература русского зарубежья
Не помню, возникали ли у меня контакты с Н. Э. Вуичем. Зато переписывался я с Б. Н. Ширяевым и с А. Н. Саковым; с этим последним, с перерывами, до самой его недавней еще смерти, неожиданной, безвременной и глубоко меня огорчившей. Кроме того, два или три раза он, приезжая в Париж, урывал время встретиться со мной, и беседы у нас всегда получались сердечные и интересные.
Оно, вроде бы, и не важно: писал я в «Русском Кличе» или нет; да и, как говорится: «Где наша не пропадала!». Но тут есть другая сторона. Быстро и прочно забыт тот существенный вклад, какой наша, новая эмиграция внесла, после Второй мировой войны, в оживление русской заграничной прессы, особенно же монархической.
Немудрено: левая зарубежная общественность столь для нее неудобные обстоятельства игнорировала и замалчивала; и, к несчастью, с большим успехом. Сейчас, когда появилась новейшая эмиграция, когда свободное слово начало проникать через железный занавес в СССР, – некому про это рассказать, да кто и может, не придает тому значения; а напрасно!
Я же, признаться, не без гордости и удовлетворения вспоминаю о том периоде жизни, – однако, тяжелом и полном лишений и затруднений, – и именно об этой части моей журналистской деятельности; а она была никак не оплачиваемой, и не только невыгодной, а иногда и прямо опасной.
Не буду касаться здесь «Свободного Голоса» народного социалиста С. П. Мельгунова, где я опубликовал первые свои статьи в изгнании. Но назову «Русский Путь» конституционного монархиста Е. А. Ефимовского, выходивший в Париже на пишущей машинке, а потом, когда на ротаторе, когда и типографским способом. Он, собственно, печатается и теперь, под редакцией Г. Н. Колесова; но это уже совсем другой журнал (хотя и вполне симпатичного направления).
Что до «народившихся тогда по германским лагерям русских изданий», эта фраза Б. Н. Ширяева вызывает в моей памяти журналы, редактировавшиеся Н. И. Чухновым, сделавшим, надо ему отдать должное, в тот период много полезного, – и с незаурядным мужеством: «Обзор иностранной печати», «На Переломе», постепенно превратившиеся в нынешнее, теперь уже нью-йоркское «Знамя России», – увы, отошедшее, за последнее время, от самых драгоценных идеалов и принципов, каковым оно прежде служило.
В данных изданиях я тоже прилежно сотрудничал, вместе с упоминаемым в книге Ширяева Владимиром Каралиным. Как и почему он, – новый эмигрант, убежденный монархист, судя по статьям и письмам, человек искренний и порядочный, – решился несколько лет спустя, будучи в США, вернуться в Советскую Россию, это для меня и посейчас загадка, подробности которой мне остались неизвестны…
Об участии моем, весьма энергичном, в изданиях Н. Н. Чухнова, он сам засвидетельствовал в своей книге «В смятенные годы» (Нью-Йорк, 1967), но, к сожалению, в скупых и даже двусмысленных выражениях: «С благодарностью вспоминаю… исчезнувшего с парижского горизонта Владимира Рудинского». Впрочем, к тому моменту, наши с ним политические дороги прочно и непоправимо разошлись.
Наша, монархистов из новой эмиграции, борьба выражалась, понятно, не только в журнальных и газетных статьях, а и в выступлениях с трибуны, в участии в политических организациях; проявлялась она и в опубликовании немалочисленных книг (к коим принадлежат и блестящие «Записки продавца кукол» Б. Н. Ширяева, цитировавшиеся мною выше). Но обо всем этом нужно бы было говорить отдельно…
«Наша страна» (Буэнос-Айрес), 22 марта 1977, № 1412, с. 4.
Так мы и жили…
Резко враждебная атака на меня А. Ефимовой («Наша Страна», № 1682) заставила меня лишний раз задуматься о судьбах русской печати в изгнании.
Наша зарубежная культура изначала влачила тяжкий груз, вроде прикованного к ноге каторжника ядра; мертвый груз, от коего и по сейчас полностью не освободилась (а ныне встают на горизонте новые опасности!): недоброе наследие воззрений левой интеллигенции, десятилетиями делавшей революцию и в ужасе сбежавшей от ею же порожденного детища. Она не могла отречься от взглядов, приросших к ней как собственная кожа; и если умом постигла их порочность, гордость ей не позволяла в том сознаться. Даже половинчатое отречение от старого мира далось немногим, – чьи голоса с ловкостью душили безмолвием, хотя бы речь и шла о широко известных писателях (Амфитеатров[31], Арцыбашев[32], Наживин[33]). Пересмотреть прежнее, перестроиться на новое и нужное оказалось эмиграции тем труднее, что за роковой промежуток керенщины большинство послов и представителей России за границей было сменено и заменено человечками, потребными для дела сатанинского псевдопрогресса. И в их-то руках, при радостном попустительстве Запада, сосредоточились средства и возможности.
Фатальным явилось и другое. Левые представляли собою людей, прошедших солидную политическую школу, привыкших проводить свою линию в условиях оппозиции правительству (с которым, по его либеральной снисходительности, бороться-то мало чем грозило!), приучавшей к притворству и хитрости. Правые, наоборот, вербовались из бывших офицеров и чиновников, воспитанных в принципах законности и дисциплины, готовых повиноваться власти, которой верно служили, но совсем не подготовленных к агитации, отстаиванию своих идей и к пропаганде своих убеждений (да и убеждения эти, пусть трезвые и твердые, были у нее скорее вопросом чувства и здравого смысла, чем результатом четко сформулированной программы). Добавим еще бредовой и гибельный, в обстановке политической эмиграции, лозунг военного возглавления: «Армия вне политики!».
Европа, между тем, вступила в мутные годы увлечения фашизмом. Утеряв свои здоровые основы, частично утратив монархию, начиная покидать христианскую веру, колеблясь в своих моральных установлениях, великие и малые западные державы все хуже путались в противоречиях колониального, социального, экономического и мировоззренческого порядка. Фашистское поветрие, в разных формах, коснулось русских беженцев (чем бы держаться за свое, родное, – в десять раз высшее!).
На данном фоне, с журналистикой у эмиграции обстояло так: в левых органах платили, и хорошо (тем, кто был нужен); в правых – все глубже усваивали безумное правило, что писать надо для идеи, бесплатно. Хотя всякий другой труд вознаграждается! Труд же журналиста не столь уж прост и неизбежно связан с расходами: нужно следить за газетами, журналами, книгами, посещать собрания; а все это требует времени и денег. Как это выполнять, если каторжно работаешь и живешь в бедности?! Как обязательное последствие, всякий, кто мог себе пером заработать на хлеб, адресовался в левую печать. Коли уж он был личностью насквозь идейной, то писал там научно-популярные статьи, вел обзор спортивной, театральной или художественной жизни, не слишком изменяя своим взглядам; но польза-то шла налево, а не направо. Менее же принципиальные люди (каких всегда большинство) просто приспособлялись и писали, что у них спрашивали.
Журналист правого лагеря находился в необходимости работать весь день, почти всегда тяжело (легкой работы русским эмигрантам не предоставляли; тем более – без протекции), а писать потом. Но… как мне один такой журналист рассказывал: «Начнешь писать, а глаза слипаются…» Ну, с писателями еще проще, – тех давили сразу: ни стихи, ни рассказ не опубликуешь; а если и удалось – казнь молчанием (против которой, по мнению А. Ефимовой, этически недопустимо протестовать!).
Присовокупим, что у левых имелся запас грамотной интеллигенции первого и второго сорта, формально ставшей антисоветской, и всегда готовой выполнять заказ. Направо же, помимо иных трудностей, раздоров, ссор (оные-то случались, положим, и у левых), денег не хватало, а когда и были, – разбазаривались нередко зря. Миражи фашизма откололи к тому же от нашего стана сравнительно компактную массу в солидаризм (правда, состоявшую из тех, кто не в силах был вполне избавится от соблазнов левой идеологии).
Все это радикально ограничивало сотрудничество в правой прессе способных людей; испытывая же необходимость чем-то страницы ее заполнять, редактора открывали волей-неволей двери писакам без таланта, порою и с нелепыми идеями, и старались затем с ними не ссориться. Диво ли, что публика предпочитала левую прессу милюковского типа, где встречала свежую и точную информацию в приличной литературной форме? Так устанавливался трагический заколдованный круг…
Нарисованная выше картина характерна для периода между двумя мировыми войнами, во многом и для позднейшего; но в этом последнем с некоторыми модификациями. Значительное число правых эмигрантов поддерживало немцев, и потому подверглось свирепым преследованиям; а кто и не подвергся, – понятно, сидел тихо. Печатать что-либо по-русски, особенно в первые несколько лет, осмеливались только левые. По счастью, – и к большой их заслуге, – открыто просоветскую печать на русском языке удалось-таки в основном ликвидировать, при помощи реалистически мысливших кругов западного мира.
С нами, новыми эмигрантами, левые в ту пору говорили откровенно до цинизма. Исповедуешь социалистические взгляды, – на тебе путевку в американский университет в Алабаме или Флориде (НТС своих пристраивал тоже, иными путями). Монархист?! – и все двери перед тобою навек закрыты. И тогда оставались в удел (во Франции, но верно не в ней одной), голод, бытовые и административные затруднения и самая черная работа (лишавшая при том же социального статуса и обрекавшая на всеобщее пренебрежение).
Левые своим помогали. Правые же… Случалось мне тогда поражаться, что они, в общественных и материальных делах, отворачиваясь от единомышленников из новых, выдвигали старых эмигрантов с февралистскими, а то и комунизанствующими настроениями. И на вопросы мне отвечали: «Тех, ваших, мы не знаем… а Иван Иванович служил в энском гусарском полку!». Что тут скажешь?
И. Л. Солоневич, пробивший все стены своим огромным талантом, сделал немало пользы. Беда была лишь та, что сотрудничество с ним связывалось с принятием всех его концепций, часть коих позже себя не оправдала и отпала (например, антидворянские его комплексы, враждебность к петербургскому периоду в целом и пр.). Были и другие, с честью защищавшие в те страшные годы монархическую идею. Никогда не забуду конституционного монархиста Е. А. Ефимовского, ставшего мне другом и отчасти учителем. Сколько ярких сцен рисует мне память из борьбы нашей второй волны за монархию, сообща с разумной – и вопреки безумной! – частью первой. Кое-что о них я, может быть, еще расскажу тем, кто того периода не застал.
Позволю себе несколько выводов. Давайте все вместе стараться создать могучую, популярную в пределах русской диаспоры и дальше, монархическую газету (а можно, так и газетах)! Учтем ошибки, произошедшие перемены. Улучшим качество, – подымется и тираж; добьемся самоокупаемости, – появятся и средства. Имея их, начнем и сотрудникам платить (дело сразу на лад и пойдет). Пока же, не будем их обижать намеками, что они желают эксплуатировать работающих, занимаясь сами праздным переливанием из пустого в порожнее, вымогая от них с ножом к горлу самоотречение и смирение. Им и так не весело; а не они ли, в обстоятельствах Зарубежья, ведут самую активную войну с большевиками и остальными врагами? Скорее уж, попросим тех, кто более доходной службой обеспечил себе мало-мальски обеспеченное положение, оказывать своей газете, в пределах своих сил, материальное содействие.
«Наша страна» (Буэнос-Айрес), 11 декабря 1982, № 1690, с. 3.
Враги или соратники
Публика, как всегда, с интересом встретила появление нового сборника под редакцией С. П. Мельгунова – «Российский демократ». Многое в нем нас радует и вызывает в нас светлые надежды. На замечание одного корреспондента: «Вы определенно становитесь на путь социалистического объединения, и монархическую эмиграцию Вы отбрасываете», редакция сборника решительно заявляет: «Это – сплошное недоразумение». Те же нотки сквозят в оценке письма в редакцию М. Е. Семенова и в приведении такого высказывания некоего монархиста: «Мы, сторонники восстановления монархии, признаем необходимым подчинить разрешение вопроса о форме правления в освобожденной России решению свободного избранного Всероссийского Учредительного Собрания». Видимо, эта точка зрения вызывает полное одобрение «Российского демократа», а ведь она, собственно говоря, является доминирующей в монархическом движении.
К сожалению, в силу какого-то досадного недоразумения, редакция «Российского демократа» считает, что Высший Монархический Совет занимает иную позицию. Между тем, В. М. С. с полной ясностью провозглашает, что восстановление монархии в России может иметь место не насильственным образом, а лишь через Земский Собор, Земский же Собор будет, разумеется, созван так, чтобы весь русский народ мог свободно выразить свое мнение. Итак, казалось бы, о чем же спорить?
Правда, «Российский демократ» признает только конституционную монархию. Но ведь он же сам защищает лозунг непредрешенства. Мы позволим себе и в этом вопросе не торопиться заранее решать за русский народ: формы будущей монархии определит Земский Собор: от него будет зависеть, окажется ли эта монархия самодержавной или конституционной.
Мы ознакомились с несколькими номерами выходящей в Германии газеты «Свобода». Она производит двойственное впечатление. Значительную часть данного в ней материала можно только одобрить. Отметим талантливое стихотворение Дедори Донца «Встречи», прекрасную статью Леонида Галича «Непротивление злу» (о случае с Косенкиной), под которой мы могли бы полностью подписаться, простой, но жуткий рассказ священника М. о его аресте в России – «Бесконечная ночь», блестящую отповедь Корякову в статье «Спор о Дуньке» за подписью В. С. Интересны и заметки по истории антибольшевистской борьбы в России А. Северянина и Ив. Михайловского. Казалось бы, с таким штатом сотрудников, газета могла бы стать интересным информационным и литературным органом. Но совсем другое чувство испытываешь, когда читаешь передовицы и вообще не подписанные, редакционные статьи в той же газете.
Эти статьи ставят себе ясную задачу борьбы с монархизмом. То ли же думают рядовые сотрудники, а тем паче читатели газеты? Думаем, что нет. У них явным образом основная мысль та, что сейчас надо объединить все силы против большевиков и они – мы уверены – не без досады смотрят на своих зарвавшихся «вождей», подменяющих борьбу со Сталиным войною против ненавистной им монархии и тем разрушающих общий фронт.
Мы не можем не относиться с живой симпатией к выходящему в Бельгии журналу «Часовой», хотя бы только в силу его долгого и славного прошлого. Журнал этот был до войны органом русской военной эмиграции и непоколебимо служил выражению идеологии русской армии, всегда боровшейся за Веру, Царя и Отечество. После войны, он превратился из журнала чисто военного в общественно-политический, и это повлекло за собою изменение его политических установок, ставших крайне широкими и гибкими и утративших прежние определенные контуры. Однако, поскольку во главе журнала продолжает стоять все тот же редактор, Василий Васильевич Орехов[34], известный нам как убежденный монархист и стойкий борец за национальную Россию, и поскольку во главе политического движения, начатого «Часовым», стоит Георгий Ермолаевич Чаплин[35], капитан Императорского флота, прославившийся своими энергичными действиями во время гражданской войны, не только против большевиков, но и против социалистов (им было, в частности, арестовано русское социалистическое правительство в Архангельске), мы полагаем, что можем относиться к «Часовому» и его деятельности с доверием и сочувствием.
«Русский путь» (Париж), рубрика «Обзор русской печати», октябрь 1948, № 1, с. 3.
Кризис эмигрантской литературы
Помещенная в «Нашей Стране» в № 298 статья Михаила Бойкова «Литературная клюква» затрагивает проблемы, куда более острые, чем может показаться при поверхностном взгляде. Внимательному читателю она может гораздо больше сказать о причинах кризиса эмигрантской литературы и о путях из тупика, в котором она сейчас находится, чем та многотонная масса бумаги, какая была до сих пор исписана по этому поводу.
Одним из главных несчастий русской эмиграции была укоренившаяся в ней с самого начала ее бытия своеобразная кружковщина и та странная система, при которой маленькие группки людей захватывали все ведущие посты в главных отраслях ее жизни и затем ею тиранически управляли, ревниво не допуская в свою среду никого, к ней не принадлежащего. Так это все время обстояло и обстоит и посейчас в общественной жизни, хуже всего, может быть, во Франции.
То же самое произошло и в литературе. Небольшое число людей, более или менее сами себя назначившие в писатели, поэты и критики, были приняты как непогрешимые авторитеты, и через их неумолимую цензуру могли в дальнейшем пробиться лишь те, кто им был так или иначе близок и приятен, или, самое большее, те, кто с абсолютной покорностью следовал всем их рецептам и указам.
Это худо само по себе. Но еще хуже в силу того, что эти самозванные диктаторы из монпарнасских кафе усвоили себе принципы, совершенно не соответствовавшие запросам читательской массы. Им нравилось только то, на чём, с одной стороны, лежала печать самого мрачного пессимизма, самого безысходного отчаяния: вот почему они и сделали успех Георгия Иванова[36], Ходасевича[37] и многих других поэтов в этом же роде, о которых справедливо было бы сказать словами Сельвинского[38], что у них «столько же поэзии, сколько авиации в лифте». С другой, они все оказались решительными партизанами чеховской традиции, по которой в романе или рассказе ничего не должно случаться.
Какой-либо сюжет, что-либо похожее на движение, не скажу уж, Боже упаси, на приключения, вызывали в них глубокое отвращение. Это для них был Пинкертон[39], чтиво для обывателя, детские книжки, все, что угодно, только не серьезная литература. И в смысле создания повестей, где все стоит на месте без всякого дуновения жизни или хотя бы движения воздуха, кто сможет соперничать с поднятым ими на щит Борисом Зайцевым[40]. Наконец, глубокая тяга к выверту, к чему-то неестественно вычурному в стиле и выражениях дополняла картину этого декаданса, возведенного в догму.
Между тем, их читателями была масса обыкновенных русских людей средней культурности, с обыкновенными человеческими запросами. И именно потому, что жизнь многих из них была тяжела, у них была настоятельная потребность развлечься и забыться, и почерпнуть из книг запас бодрости и энергии, которых не всегда хватало; им хотелось чего-нибудь яркого и увлекательного. Сирины[41], Газдановы[42] и тутти куанти мало им могли в этом помочь. Притом, эта масса, начиная с первых же дней, жила бурными политическими интересами, а русская зарубежная литература старательно изображала аполитичность. Масса эмиграции всегда была и остается настроенной право, а писатели, под маской индифферентности, были в большинстве левыми, отчасти, может быть, в силу правила «бытие определяет сознание»; не будем расшифровывать, так как понять выгоду быть левым, в эмигрантских условиях, не трудно.
Что же делала публика? Во-первых, читала, кто в оригинале, а кто в переводе, тех писателей, которых перечисляет Бойков, как Конан Дойля, Честертона, Агату Кристи. Чего тут особенно стыдиться, когда ими зачитывается весь мир, и не испытывает по этому поводу никакого комплекса неполноценности? И притом, даже в плохом переводе или на плохо понятном языке они все же не в пример легче для уразумения, чем многое из упражнений хотя бы того же, по-своему, впрочем, талантливого Сирина (не будем уж говорить о Ремизове[43]!).
Во-вторых, она читала по-русски то, что хоть сколько-нибудь отвечало ее запросам. Отсюда бурный успех не только Краснова[44], но даже и какого-нибудь Брешко-Брешковского[45], и посмертная популярность сочинений Крыжановской[46], и посейчас принадлежащих к числу самых ходких книг в русских библиотеках.
В то же время, надо учесть, что то отталкивание от всего написанного по-русски, которое является типичной чертой русской молодежи заграницей, в значительной мере объясняется именно вот этим характером русской зарубежной литературы, теми флюидами гниения и скуки, какие от нее исходят. Исключения, понятно, есть, как, например, Алданов[47], статичности абсолютно чуждый; но его замолчать было невозможно, да и его левизна заставляла критику прощать ему многое.
Между тем, почему, собственно, эпигоны Чехова, конечно, не имеющие таланта своего учителя, возвели себя в сан единственных продолжателей русской литературной традиции? Будто в России не было «Капитанской дочки», или «Героя нашего времени», или «Преступления и наказания» с их острой сюжетной линией? Или гоголевского «Портрета», лермонтовского «Штосса», «Упыря» Алексея Толстого, с их загадочной мистикой? Кто и почему наложил табу на продолжении этой традиции?
Казалось, все идет гладко в русской зарубежной литературе, но прямой дорожке к безболезненной смерти. Читателей охочих на то, что она предлагала, делалось все меньше и меньше; читали классиков, читали на иностранных языках, не читали вовсе, но никто не желал пить из их усыхающей лужи. Дело мирно сходило на нет.
Но тут произошел непредвиденный кризис. Волна новой эмиграции внесла два изменения: дала авторов, желающих писать по-новому, и читателей, желающих читать – то актуальное и интересное, и непременно по-русски. И повсюду саван стал рваться, и из-подо льда стали пробиваться цветы. Скажем, стихи Олега Ильинского[48] куда ближе к Гумилеву, чем к Георгию Иванову. «Денис Бушуев» Сергея Максимова[49], как и названное выше «Преступление и наказание», не только психологический, но и детективный роман (имеем в виду главным образом его первую, наиболее удавшуюся часть). «Девушка из бункера» Л. Ржевского[50] полна самой живой актуальности, не боящейся современных и политических тем. «Мнимые величины» Н. Нарокова[51] от начала до конца держат читателя в напряженном любопытстве перед рядом поставленных ему загадок.
К этой же струе относятся и те романы, из-за которых сейчас сыр-бор загорелся: «Две силы» И. Л. Солоневича и «Рука майора Громова» Михаила Бойкова. Вовсе напрасно говорить о них, что они «легкое чтение» и т. п., как с чрезмерной скромностью признает М. Бойков. О романе Солоневича во всяком случае. Его герои – живые люди с интересной и индивидуальной психологией, а картины быта в нем ценнее, чем в десятках эмигрантских романов. Попытки снобов из «прогрессивной» старой эмиграции их критиковать с точки зрения жизненной правильности просто смешны: не стоит им придавать значения. Они нам, новым эмигрантам, будут говорить о жизни в СССР! Только этого, в самом деле, еще недоставало.
Другую часть не публики, а критиков, возмущает самый жанр этих вещей, как будто по-русски нельзя писать детективные и приключенческие романы. Да почему же собственно? Даже если бы их до сих пор и не писали, отчего же нельзя попробовать?
Что до обвинений в несерьезности и просто замалчивания со стороны критики, хочется вспомнить совет архиерея из одного из лесковских рассказов: «Не устрашайтесь!». Давайте, будем писать, как нам сердце подсказывает. Если мы больше нравимся публике чем престарелые наставники, всегда наводившие на нас одну лишь скуку, и вызывавшие уважение разве только тем, что, желая «ученость свою показать», говорят очень непонятно, то этого пока с нас и довольно. Потомство уж разберет, кто был прав, кто виноват в нашем споре. И, может быть, его суд будет для нас более снисходителен, чем таковой нынешних властителей русского Парнаса из кафе «Ротонда» и всяких прилегающих к нему областей.
«Наша страна» (Буэнос-Айрес), 17 ноября 1955, № 304, с. 3.
На зыбкой почве
Само по себе, оно бы радостно, что в Советском Союзе стали теперь интересоваться литературой второй эмиграции. Хотя некоторые тенденции в разработке данной темы решительно неприятны. Например, о чем мы уже упоминали прежде, стремление смягчить «вину» новых эмигрантов, якобы оказавшихся за границей случайно и против их воли, и уж тем более мол не боровшихся никогда активно против советской власти.
К несчастью, почва к тому подготовлена была отчасти уже в Зарубежьи. Я бы мог, скажем, назвать имя уже покойного поэта и критика, тщательно скрывавшего свою службу в РОА, и с успехом унесшего свой секрет в могилу. Сдается, – таких случаев было много… Еще бы! Правда, в годы после войны, могла стоить жизни, а в более позднее – принести всяческие неудобства.
Особую неутомимость проявляет в исследовании прозы и поэзии второй волны В. Бондаренко – см. его статьи в московском журнале «Слово», № 10 за 1991 год, «Казненные молчанием» и в московской же газете «Русский Рубеж», № 11, за тот же год и «Архипелаг “ди-пи"» (эта последняя перепечатана в мюнхенском альманахе «Вече» № 42).
Однако при освещении им вопроса, встает под его пером целый ряд неясностей.