
Полная версия
Гавриил, или Трубач на крыше

Валерий Заворотный
Гавриил,
или Трубач на крыше
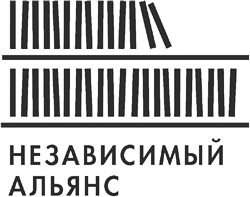
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© В. И. Заворотный, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
* * *
Вы живете не на внутренней, а на внешней поверхности шара, – сказал Максим. – И таких шаров еще множество в мире. На некоторых живут гораздо хуже вас, а на некоторых – гораздо лучше. Но нигде больше не живут глупее.
Аркадий и Борис СтругацкиеОбитаемый островI
Не надо приставать к человеку, выпытывая сокровенные мысли его и желания. Потому что редко кому дано во всей полноте осознать, а еще реже – точно выразить желания и мысли свои.
А коли человеку в данный момент вообще ничего не хочется? Зачем же тогда и пытать его, чего же выспрашивать?
А коли утомлен человек? Настолько утомлен, что нет у него сил даже мыслить в данный момент?
Нет, не надо приставать к человеку. Не надо…
В этот ужасный вечер всё обстояло именно так.
Ни выслушивать никакие вопросы, ни отвечать на них не был способен Василий Губин – сантехник Жилкомсервиса, что ранее, во времена его молодости, именовался Жилищно-эксплуатационной конторой № 16, или попросту жилконторой.
Ничего не хотелось ему. Ничего.
В унынии и тоске сидел Василий на колченогом стуле возле распахнутого окна, устремив невидящий взор свой в пространство, заполненное мутным светом уходящего дня.
Замутненным был и рассудок его, пребывавший в таком состоянии уже много часов. Смутно рисовалось в нем нечто булькающее, нечто перетекавшее из зеленого бутылочного горла в тонкий прозрачный стакан, а после исчезавшее непонятно куда.
Сия картина повторялась в мозгу сантехника многократно. И мозг, не в силах выдерживать этой пытки, периодически отключался.
Не мог истощенный губинский мозг ничего вспомнить. Да и не хотел вспоминать. Ибо давно сказано: «Во много мудрости много печали и кто умножает познания, тот умножает скорбь».
За окном же наступавшие сумерки дарили Губину картину, хоть и неотчетливую, но прекрасную. Ах, если бы только мог он разглядеть ее! Увидел бы он, как в легкой дымке, заполнявшей пространство огромного двора, – там, наверху, над щербатым асфальтом, над сломанными скамейками, над криво стоявшими мусорными баками, над серой трансформаторной будкой, украшенной надписью: «Люська сука», над всем этим привычным ему пейзажем медленно разливался сказочной красоты закат. Увидел бы, как по самой кромке лилового неба, подпертого зубчатой стеной одинаковых домов (серия Щ-991, верхний разлив, стояки ржавые), струится тот самый несказанный (или как там в школе разучивали?), в общем, тот самый свет, в отблесках которого скакать бы ему, Василию, на розовом, в яблоках, коне, забыв про смывные бачки и протечки, оглашая залихватским свистом панельные дома серии Щ-991.
Но ничего этого не видел Губин. И ни на каком коне скакать ему было невмочь. Да что там скакать! Ни на какого коня, пусть даже полудохлого, забраться он был бы не в силах.
Похмелье мучило его. Похмелье.
Тем временем закат, не дождавшись восхищенного взора Василия, медленно догорел и погас. Огромный двор погрузился во тьму, разгоняемую снизу тусклыми пятнами фонарей, а сверху украшенную редкой наколкой одиноких звезд, безразличных к людскому страданию.
Впрочем, звезды виднелись недолго. Не прошло и часа, как откуда-то из глубины, из самой сердцевины начала расползаться непроглядная хмарь. Пожирая одну за другой сверкающие булавочные головки, она быстро заполнила всё вокруг. Даже пятна фонарей, казалось, померкли и сжались, а освещенные окна домов-близнецов, стали едва различимы.
Короткий, яростный гром ухнул, раскатился по небу, отозвался эхом в пустых дворах – и затих, затаился. Потом опять громыхнуло – уже протяжней и глуше, дробясь на отдельные звуки, словно пустые дубовые бочки покатились во тьме. Через секунду извилистый огненный шнур устремился вниз, разметав на краткий миг страшную ночь. Вслед ему снова загромыхали бочки, и десятки сверкающих голубых змей ринулись сверху к земле.
Трясся, стонал иссиня-черный купол, озарялся короткими всполохами, будто пытался что-то исторгнуть из мрачных своих глубин. Пытался, но не мог. А оттого напрягался всё яростнее, пока наконец ни освободился рывком от тяжкой обузы, выдохнул – не громом уже, а шелестом.
Но и этого ничего не мог ни видеть, ни слышать Василий, ибо к тому времени, вконец обессиленный, покоился он задом своим на стуле, а головой на подоконнике, погрузившись в тяжелый сон.
* * *Сон – благо, дарованное человеку злодейкой-природой. Любой вправе вкушать его, будь он хоть вознесен судьбой на самую вершину власти, хоть прикован этой самой судьбой к вечно текущим смывным бачкам. И горе тому, кто осмелится нарушить покой спящего человека, измученного к тому же головной болью.
Пробуждение такого человека будет ужасным. Вздрогнув, захрипев, с трудом разлепив сомкнутые веки свои, начнет он озираться вокруг, ища обидчика.
И что увидит несчастный сей человек?
Разглядит он (не сразу, но разглядит) комнату в пятнадцать квадратных метров, в одном углу которой будет стоять старенький телевизор, а в другом – платяной шкаф, не менее старый. Шкаф этот будет раскрыт, и дверца его, повисшая на одной петле, наполнит душу, вернувшуюся из забытья, глубокой тоской.
Еще разглядит он круглый, некогда полированный стол, застланный измятой, некогда белой скатеркой. А на столе том увидит он одинокую бутылку, что еще более усугубит его тоску и печаль. Потому что бутылка эта будет пустой. Совершенно пустой!
Переведя взор свой чуть вбок, узреет он застланную серым одеялом старую тахту. Вид этого ложа породит в душе его сомнения, колебания и новый прилив тоски.
Горестно вздохнет человек и заскользит взором дальше – скосив глаза, но не поворачивая голову.
Нет, только не поворачивать голову!
А затем увидит он…
Затем увидит он, сантехник Василий Губин, нечто такое, что заставит всё нутро его содрогнуться.
Увидит он прямо перед собой какую-то бородатую рожу.
Да, да! Некую совершенно незнакомую рожу, глядящую прямо в душу ему наглыми своими глазами.
И скажет Василий: «Ой!»
И ничего больше произнести будет не в силах…
Человек, стоявший перед Василием, выглядел устрашающе. Окаймленное густой бородой лицо было изрезано морщинами, а большие черные глаза его смотрели на сантехника пристально и сурово.
Одет гость был странно. Длинное серое рубище, напоминавшее не то балахон, не то рубаху из грубой шерсти, висело на нем мешком, спускаясь к полу и приоткрыв лишь узловатые ступни необутых ног.
Да, босым стоял он перед Василием. Совсем босым. И зрелище это, отчасти странное само по себе, усугублялось еще и тем, что ступни незнакомца, будучи грубыми, узловатыми, сияли притом белизной. Как, впрочем, и лицо его, и ладони, видневшиеся из складок серого балахона. Померещилось даже Василию, что исходит от них – от рук этих и лица – бледное, едва различимое сияние.
– Дык, ать, мать, – произнес Василий, облизнув пересохшие губы.
Дальше не получалось.
– Кто… будешь? – разорвал наступившую тишину голос, повергнувший сантехника в дрожь.
Говорил незнакомец басом, чуть размыкая узкие губы. Лицо его оставалось неподвижным, будто вырезанным из белого камня.
– Я-то? – Василий ощутил холодную пустоту внутри живота.
– Ты-то.
– Дык я… Я чего? Ну, это… Ну, Вася.
Бородатый гость, продолжая сверлить его немигающим взглядом, спросил:
– Где?
– Чего где? – Василий постепенно начал приходить в себя, хотя мозг его еще слабо повиновался ему.
– Где я?
– Ты-то? – окончательно возвращаясь к жизни, уточнил сантехник. – Здесь ты. Где ж еще, блин?
Человек в рубище медленно оглядел комнату. Он слегка пошевелил рукой, отвел ее за спину и неожиданно извлек оттуда странный предмет, показавшийся Василию чем-то вроде фановой трубы. Но труба эта была почему-то медной и до блеска надраенной.
Приглядевшись, Василий понял, что труба явно не фановая. Была она тоньше фановой, заканчиваясь короткой дудкой, а нижняя часть представляла собой блестящий раструб – как у той штуковины, что видел он когда-то в полковом оркестре, и что называлась, вроде, тромбоном. Только у той имелись еще какие-то загогулины, а эта была прямой.
– И придет час… И воспоют трубы… – изрек непрошеный гость, снова заставив Василия вздрогнуть.
– Да чего ты?.. – пробормотал Губин, зачем-то озираясь. – Ты чего?..
Угрюмый гость молчал.
– Ты с какой квартиры? – Голос Василия прозвучал тихо и робко, а нутро его, пересохшее нутро его опять тоскливо съежилось.
Гость и на сей раз ничего не ответил. Серый балахон маячил перед сантехником, словно наброшенный на каменное изваяние. И несло от грубых складок чем-то приторно сладким.
Паршиво всё это было. Ох, паршиво.
Истомленный губинский мозг напрягся, пытаясь осмыслить происходящее. И, напрягшись, родил догадку.
Вспомнил Василий, что дня два назад, сидя во дворе на скамейке, слышал он краем уха разговор. Вели тот разговор две бабки из пятого подъезда. Одна – толстая, скандальная (шестой этаж, унитаз с косым выпуском, манжета дохлая), а вторая – сухонькая тихоня (прокладка в смесителе).
И вспомнился из того разговора кусок, где речь шла о каком-то их соседе и о его приятеле. А может, о родственнике. Тот вроде бы приехал к соседу в гости и оказался вроде бы полным психом.
Говорили бабки, что псих этот вечно шумит, буянит и покоя старухам не дает.
«Он это. Он!» – подсказал Василию его проснувшийся мозг.
И хотя мысль эта и показалась ему здравой, но что-то в глубине души не позволяло принять эту здравую мысль.
Не походил гость на психа. Чем-то не походил.
Между тем изваяние в робе зашевелилось, сделало шаг и вплотную приблизилось к сидевшему на стуле сантехнику.
Василий поджал ноги, а хлипкий стул под ним издал жалобный скрип.
– Покайтесь!.. Покайтесь, грешные!.. Близок день! – прозвучало над головой и отскочило эхом от желтых полинялых обоев.
Захотел было Губин встать со стула, но не смог. Тогда сомкнул он дрожавшие коленки и с великим трудом выдавил из себя:
– Ну, слышь, кончай!.. Кончай, а!.. Ну чо те надо? Зачем пришел?
«Если псих – вмажет!» – промелькнуло в мозгу. И даже захотелось Василию чтобы бородатый вмазал ему. То есть не то чтобы вмазал, а чтобы замахнулся или как-то иначе выказал свое намерение. Тогда бы всё сразу стало на место. Тогда бы собрал Василий остатки сил, грохнулся бы со стула на пол, а там – в ванную. А в ванной – разводной ключ. На худой конец – кусок трубы в четверть дюйма… Поговорили бы!
Но гость не вмазал. И даже намерения такого не выказал.
Из складок робы показалась гладкая белая рука, поднялась вверх, и потолок над головой сантехника посветлел. Будто зажглась там висевшая на шнуре лампочка. Но не зажигалась она. Нет! Точно видел Губин, что не зажигалась.
Рука незнакомца описала полукруг, и ладонь его зависла над бедной Васиной головой.
– Говори, – пробасил человек в робе.
– Мя… тя… ля… – выдал Губин всё, на что был способен.
– Говори, – повторил гость.
И сантехник заговорил…
Он сидел на шатком стуле, голова его почти касалась простертой над ней ладони, а с неподвижных губ (неподвижных, чтоб он сдох, неподвижных!) каким-то чудом слетали слова.
Понимал он собственную речь с трудом.
– Простите за бестактный вопрос, – как бы произнес как бы Василий. – Но ваше появление здесь выглядит довольно экстравагантно. Ни потрудились бы вы объяснить: что, собственно, привело вас в мою квартиру и каким образом вы здесь оказались?
Василий на мгновение замолк, потом продолжил. То есть продолжил не он, а одни лишь сомкнутые губы его, непонятно каким образом исторгавшие фразу за фразой.
– Я готов выслушать вас, раз уж вы здесь появились, – лилось из неподвижных уст, – но согласитесь, что для начала хорошо бы представиться. Не помню, чтобы мы ранее встречались. Правда, в силу некоторых обстоятельств, у меня сегодня не всё ладно с памятью. Надеюсь, вы извините.
На сем речь его закончилась.
Губин внезапно обмяк и почувствовал, как всё тело, прежде будто налитое свинцом, расслабилось. Тупая боль в затылке исчезла.
Незнакомец, прослушав ахинею, закрыл глаза, опустил руку и замер в таком положении.
Василий пошевелился, глянул по сторонам, а когда вновь обратил взор к бородатому, увидел, что тот каким-то дивным образом изменился. Лицо его утратило бледность, порозовело и разгладилось. А главное – перестало исходить от него это гнусное сияние, что больше всего пугало сантехника.
– Ладно, – сказал бородач, открыв глаза, которые тоже вроде как потеплели. – Ладно, Вася. Давай познакомимся.
При этих словах Губин оторопел. Не потому, что не понял их. Понять-то он как раз всё понял. Чего тут было не понять-то? Но голос… Голос бородатого стал иным, напрочь не похожим на прежний. Что-то знакомое почудилось Василию в этом голосе. Но что именно, осознать он не мог.
Когда бы осознал, оторопел бы еще больше.
Незнакомец заговорил его, Василия, голосом. Но, как известно, не дано нам слышать собственный голос, а лишь отраженное эхо. Потому, услышь мы свой истинный голос со стороны, хоть и знакомым он нам покажется, но не всякий и не сразу его узнает.
Не узнал и Василий.
Гость между тем продолжал.
– Зовут меня, Вася, Гавриилом. Да только вряд ли слыхал ты когда обо мне. Я, видишь ли… – Он замолчал, подбирая слово. – Посланник я, Вася… На Землю вашу грешную послан… Такие вот дела.
«Точно – псих», – подумал сантехник. Хотя уже то, что бородач заговорил по-человечески, придало ему бодрости.
Оставалось выяснить, сможет ли он сам – Губин – снова заговорить по-человечески.
Василий попробовал разомкнуть губы. Получилось. Он вдохнул, зажмурился и сказал: «А-а-а». Вроде бы вышло.
Губин приободрился, уже смелее глянув на гостя.
Теперь надо было держать ухо востро. Надлежало вызнать у старикана, как тот здесь оказался. Было ясно, что проник он в квартиру, пока Василий спал. Это факт. Но для чего проник и где взял ключи (если только не ломал замок), предстояло выяснить. Неплохо было бы разузнать и насчет медной штуковины, которую бородатый держал в руке. Не нравилась Губину эта штуковина. Очень не нравилась.
Василий собрался с духом и, стараясь, чтобы голос его звучал поприветливей, спросил:
– Посланник, говоришь? На Землю, говоришь, послан? Это как же? Это в каком смысле? Вроде архангела, что ль?
Гость посмотрел на него с укоризной:
– Не веруешь?
– Верую, верую, – поспешно выпалил Губин и коряво начертал в воздухе что-то вроде креста.
Лицо балахонщика снова помрачнело.
– Грех! – произнес он прежним своим басом. А затем, опять перескочив на человеческий голос, тихо добавил: – Бесстыжая твоя морда.
Василий постарался изобразить раскаяние. Он опустил голову, не переставая, впрочем, следить за пришельцем.
– Ну, я это… Ну, не то чтоб верующий. Но прабабка у меня крещеная. Точно!.. А потом коммуняки позапрещали всё. Сам знаешь… Но теперь, конечно. Теперь-то можно. Теперь-то что.
– Грех! – повторил бородач, колыхнув рубищем. – Все в грехах погрязли!.. Вовремя прибыл я, стало быть. Вовремя.
Уставший бояться Василий решил идти напролом.
– Ну, ладно тебе, ладно! Кончай базар! Не кати баллон! – зачастил он в лицо балахонщику. – Скажи, наконец, чо те надо? Откуда взялся? Зачем трубу приволок?.. Не томи душу, едрить твою!
Он ожидал, что серый в робе взъярится, и снова приготовился рвануть в коридор, к ванной. Но тот заговорил голосом нормальным, даже чуть притихшим.
– Не ведаешь, что творишь, Вася, – сказал он грустно. – Все вы не ведаете. Оттого и час ваш настал… Послан я сюда, Василий, чтоб Судный день трубить… Время пришло, Вася… Время.
Он поднял надраенную трубу и покачал ею перед лицом сантехника.
На душе Губина сделалось муторно. И вновь припомнился ему давешний разговор двух старух на скамейке.
Да что ж это такое, граждане? За что свалился ему на голову этот псих в мешке? Чем таким провинился он, Василий Губин, что должен вот здесь – в квартире своей, – не опохмелившись поутру, не приняв для здоровья ни грамма, выслушивать всю эту хренотень? За что ему напасть такая?
Он сделал глубокий вдох, поднялся со стула и выпалил, ошалев от собственной смелости:
– А шел бы ты лесом, папаша! Валил бы куда подальше… Где квартира твоя? Ступай, откуда пришел!
Ни один мускул не дрогнул на лице бородатого. Ни одна складка не шевельнулась на балахоне. Взгляд немигающих глаз его стал прежним – таким, как был в первую минуту появления перед Василием.
И вновь поднял он руку.
А через секунду Губин заскользил по немытому полу своей квартиры, по серому, в пятнах, линолеуму. Заскользил, как бумажка, гонимая ветром. Заскользил – и въехал, впечатался спиной в желтую стену.
Свет померк перед глазами сантехника. Неведомая сила держала Василия, припертого к стене, не давая пошевелиться.
И вдруг потащило его куда-то вверх.
Руки Губина упали плетьми, ноги потеряли опору, и он обнаружил себя висящим на стене, в полуметре от пола…
Висел он там!
Висел, как картинка на гвоздике!
Одурманенный мозг Василия больше не хотел иметь с ним дело. Темная пелена затянула пространство, скрыв обшарпанный платяной шкаф, круглый стол с одинокой бутылкой, колченогий стул у окна, лампочку под потолком, скрыв ужасного серого гостя, стоявшего посреди комнаты.
Воцарился мрак…
* * *Спустя немалое время после описанных событий, а точнее – в три часа пополудни, любой, кто заглянул бы в квартиру, где жил сантехник Губин, обнаружил бы следующую картину.
Вася Губин сидел на полу, опершись спиной о стену. Ноги его были вытянуты, ладони рук покоились на коленях. Голова сантехника была наклонена чуть вперед, в широко раскрытых глазах проглядывалось любопытство.
Перед ним на скособоченном стуле сидел пожилой человек с густой бородой и длинными, до плеч, волосами. (Впрочем, и волосы, и борода, надо отметить, – без малейших признаков седины.)
Одежда на человеке, сидевшем перед Василием, была не совсем обычной. Представляла она собой хитон из груботканой материи серого цвета. Широкий вырез открывал ключицы, складки хитона почти целиком прикрывали руки, скрещенные на груди.
Пожилой человек о чем-то рассказывал Губину, напряженно внимающему его словам.
«…и вот с тех пор каждый год шлют на Землю посланника в образе человеческом. Дабы обозрел он дела людские, в греховности людской убедился. А коли увидит, что не образумились они, коли поймет, что нет боле надежды, тогда должен сигнал подать… И уж в ответ ему воспоют трубы небесные… И прозвучит глас… И наступит День Судный», – закончил Гавриил свой рассказ.
Губин минуту помолчал, силясь переварить полученную информацию.
– Значит, говоришь, каждый год архангела шлют? Туда-сюда гоняют?
Гавриил нахмурился.
– Не архангел я, – строго сказал он. – Посланник токмо. Не ровня архангелу.
Василий перечить не стал. В небесной иерархии он не разбирался. Хотя про архангела Гавриила что-то слышать ему приходилось. То ли от бабки, то ли от кого-то еще. Потому для ясности все-таки задал вопрос:
– А отчего ж тогда тебя Гавриилом зовут? У вас что, их там много – Гавриилов-то?
Ляпнул и тут же прикусил язык – испугался обидеть.
Но гость лишь усмехнулся и, словно передразнивая, ответил – его же, губинским голосом:
– А у вас здесь что, Василиев мало? Иль тебя одного так нарекли?
Губин предпочел оставить этот скользкий вопрос без ответа. Но про себя решил всё же называть Гавриила архангелом. Звучало как-то солиднее.
– Хорошо, – сказал он. – Это я просто так поинтересовался… А вот насчет Судного дня. Вот, допустим, протрубят его. Потом-то что будет?
– А ничего не будет.
Гавриил развел руками.
– Так уж и ничего? – усомнился Василий.
– Ничего, – повторил архангел. – Покой… Мир, покой и благоволение в человецах.
– Покой?.. А ты же говорил, что кому как. Говорил, что каждому статью дадут по делам его, – попытался уточнить любопытный сантехник.
– По делам, – ответил Гавриил. – Каждому – по делам его. Ибо сказано…
– Погоди, погоди, – перебил Губин. – Насчет «сказано» это я помню. Ты лучше объясни вот что. Раз не всем такая благодать светит, то мне вот, к примеру, как?
– Грешен ты, Вася, – грустно сказал архангел. – Грешен… Потому…
– Кранты, значит, – подытожил Василий.
Архангел Гавриил вздохнул и отвел глаза. Лицо его снова исполосовали морщины.
– Да ладно! Чего там, – махнул рукой Губин. – Не бери в голову, Гаврюша. Всё путем.
Лицо архангела было скорбным и строгим. И тень тоски узрел в нем Василий. Не будь тот архангелом, подсказал бы ему Губин, как развеять тоску – магазин-то рядом. А так – неловко было предлагать.
– Ну а насчет трубы своей чего ты говорил? – попытался он отвлечь собеседника от грустных мыслей. – Чо там с ней приключилось?
Гавриил опять вздохнул:
– И на мне грех… Не уберег трубу. Не уберег… Разверзлись хляби небесные, огонь сошел. Не уберег трубу. Грех на мне.
Только теперь сантехник заметил на медной трубе глубокие вмятины.
– И чего ж будет? – Василий, проникся к гостю сочувствием, но в то же время испытал некоторое облегчение. – Трубить-то тебе когда?.. В смысле, когда решить должен насчет сигнала?
Его всё еще терзали сомнения по поводу услышанного. Складно рассказывал старикан. Но как-то не очень верилось.
– Да теперь-то что толку? – ответил Гавриил. – Не сам я выбираю, когда сигнал подать. Знак будет… Коли не исправлю трубу до той поры, не быть мне. Низвергнут в бездну. И поделом.
Василий почесал в затылке, подумал и указал в сторону надраенного тромбона.
– Хошь, погляжу? Может, чего придумаю.
– Нельзя тебе, – архангел отстранил руку с трубой. – Праведник нужен.
Василий понимающе кивнул.
– Ясненько… Праведник, значит? Без грехов который. Да где ж ты его найдешь? Повывелись все. Может, тебе куда в другое место слетать? – Губин оживился. – Послушай, Гаврила. Я тебе не указ. Но только ты уж мне поверь: здесь искать – дохлое дело. А там где-нибудь, глядишь, и отыщется. Подумай, а? Найдешь там человечка подходящего, безгрешного, трубу починишь и протрубишь как положено.
Архангел молчал.
– Я бы тебе помог с трубой, – продолжал развивать свою мысль Василий, – но ты же сам сказал, что нельзя мне. Да и я не козел, понимаю. Нельзя так нельзя. А в другом месте кто-нибудь и нашелся бы. Есть же такие места, не может не быть. Поискать только надо.
Гавриил отрицательно покачал головой.
– Нет, не мне решать. Куда послан, там и трубить. – Он посмотрел на Губина, и голос его дрогнул. – Ты бы отыскал мне праведника, Вася.
Слова прозвучали по-доброму, но сантехник поежился.
Грешен был Василий Губин, грешен. И хотя уже третий час сидел он у стены, куда вначале пригвожден был архангелом, а затем прощен и помилован, хотя узнал он за те часы много такого, чего не узнал за всю прежнюю жизнь свою, однако всё еще металась душа его между сомнением и верой. То и дело нашептывал ему чей-то вкрадчивый голосишко: «Ой, фуфло всё это, Вася. Ой, фуфло!.. В ментовку надо смотаться, в ментовку».
Губин заерзал и, словно спохватившись, шлепнул себя ладонью по лбу:
– Праведник… Праведник… Да ведь знаю я, кажись, одного… Точно!.. Послушай, Гаврюша. Может, ты меня здесь обождешь, а я сбегаю, выясню? Был тут один. Точно был!
Если бы глянул Гавриил в глаза Василия, не стал бы и отвечать ему. Да вот незадача – попала тут сантехнику в глаз пылинка. И стал он тереть глаза кулаком, начал головой трясти, повторяя: «Ах, чтоб тебя, чтоб тебя… Прости, Гаврюша. Пылища кругом. Пол грязный, зараза. Приду – помою. Точно помою… Это ж надо!»
И старался изо всех сил не думать о ментовке. О чем угодно, только не о ментовке!
О магазине думал, об отделе винном, о водке думал, о пиве в бутылках, о пиве в банках, о колбасе думал, о Ленке-продавщице, что в отпуск ушла, о другой Ленке – с шестого подъезда, о болтах, о гайках. Обо всём подряд думал, пока сам себя не задурил окончательно. И всё тер, всё тер глаза свои, нехристь…
И отпустил архангел Василия.
И протопал Василий по комнате своей. И вышел он через дверь свою. И спустился по лестнице. И, оказавшись в большом дворе, прошел по асфальту вдоль мусорных баков. И миновал он трансформаторную будку, где написано было: «Люська сука». И свернул за угол. И узрел на другой стороне улицы низкий дом из серого кирпича. И синюю вывеску узрел он на доме том.

