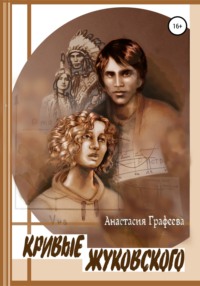полная версия
полная версияПределы нормы
За следующий круг началась борьба. Целая толпа женщин и детей хотели мой карандаш. Им всем лишь бы нарисовать круг в моем альбоме. Они думают, что круги у них выйдут разные, а я знаю, что нет. И из этого большого общего круга, слитого из тысячи одинаковых, будто ветром несет обрывки фраз: дурь, дрянь, таблетки, сгубит он девчонку, рано или поздно он доиграется и ее с собой потащит… Я закрываю уши ладонями, это не помогает. Мне бы толпу разогнать, да я робею, куда проще лежать под одеялком и ненавидеть Вовку.
Я уже в слезах, может хватит на сегодня художников, тыкающих меня носом в мои круги? Но змея кругов рисовать не стала, она сама может принять любую форму, зачем ей карандаш. Кольцом обвила мою шею. Шепнула: крепче держи.
И я проснулся в слезах, сжимающий в руке невидимый пистолет. Свободной рукой вытер лицо. Зря змея стараешься, подумал я, нет во мне ненависти к доктору.
Я встал с кровати, вышел в гостиную. Одна дверь отделяла меня от того, ненависть к которому сжигала. Не запертая дверь. Я подошел к ней. Тихо-тихо прижался к деревянному полотну лицом, так тихо, чтобы с той стороны меня не услышали. У меня не было плана, не было вариантов, не было оправданий. В моей руке был невидимый пистолет. Но этого было достаточно. Ведь достаточно же было всех прочих, умерших, просто ненавидеть. А для полного, думал я, если что, у меня есть справка. Для тех, кто со справкой есть больница. Там конечно тоже решетки и кормят не очень, но мама будет… носить… передачки…
Будто без сил, я опустился, присел тут же у двери. Вот тебе и круг. Мама опять нашла меня сидящим на полу. Но в прошлый раз, как рассказывала Лада, весь в слезах я бился в истерике. А сейчас я спокоен. Я рассматривал свои пустые ладони, и улыбался.
Потому что я сказал «мама» и в двери заворочался ключик. Если от ненависти умирают, то от любви, значит, приходят.
– Ты что здесь сидишь? – спросила она меня, – так тихо, я думала, ты спишь.
Я в ответ ей только улыбался.
– А Марсель куда уехал? Не сказал? Машины его нет.
Глава 6
Если мама молчит, значит все плохо. Так всегда это понимал.
Мы пили чай, и чтобы она дальше не молчала, я ее спросил как Лада. Мама сказала, что все хорошо, все заживет, перепугались больше. Спросила как у меня на работе. Я сказал, что задерживают зарплату, а дядя Паша очень хочет выпить и, что пока получки нет у меня отпуск. Еще сказал, что когда дядя Паша будет в запое я буду за главного, буду следить за приборами, сказал так чтобы мама мной гордилась. «Хорошо» – кивала она, наверное, и вправду гордилась. Но потом я добавил и видимо зря:
– Как только выйти разрешат, сразу в котельную, вдруг получку дали, дядя Паша может обидеться.
Мама сжала губы, нахмурилась, смотрела не на меня, а в свой чай. Я дотронулся до ее руки, державшей стакан, она на меня так и не взглянула. Я сказал:
– Мам, я тут не причем.
Но мои слова слились со стуком в дверь. Мама ушла открывать. В проеме кухонной двери показался молодой полицейский. Я вскочил на ноги, подошел к полицейскому почти вплотную. Тот кивнул и пошел прочь из квартиры, я спешно оделся и за ним.
В кабинете нас уже ждал полный. Папка, из которой утром он извлекал листок с данными доктора, заметно потолстела, он вынимал то один то другой лист, что-то дописывал, менял их местами. Я уже сел, а он все продолжал. Так, не отрываясь, и спросил, будто бубнил себе под нос:
– Значит, вы утверждаете, что пятнадцатого декабря две тысячи восемнадцатого года с двенадцати до двух часов ночи находились с Михеевой Розой Валерьевной у нее дома?
– Да, – наверное, очень тихо сказал я, потому что он взглянул на меня, как мне показалось, вопросительно, и я повторил, чуть громче.
– Хорошо, – сказал он громко, как бы демонстрируя, как нужно отвечать на его вопросы, – а Михеева отрицает факт вашего присутствия в ее доме в это время.
Я кивнул. Сердце бешено колотилось.
– Вы по-прежнему утверждаете, что…
– Да, – сказал я, почему-то не хотелось заново выслушивать дату и время.
– Михеева говорит, что в это время у нее находилась Лада Евгеньевна.
– Понятно, – наверное, более радостно, чем следует, сказал я.
– Что вам понятно?
– Она защищает Ладу.
– От кого?
Не хватило духу сказать «от Марселя».
Как не странно, но полицейский не стал настаивать на ответе, выдержав паузу, спросил о другом:
– Если вы все-таки находились у Михеевой, то где же была Лада Евгеньевна?
– У доктора.
– Соболева?
Я нерешительно кивнул.
– В его квартире?
– Да.
– Кто еще знал об их любовной связи?
– Все.
– Кто все?
– Я, Роза, Алена Игоревна, Марсель.., про маму точно не знаю.
Он медленно записывал. Разобрать слов на бумаге я не мог. Что же я ему такого сказал, что стоило бы записать. Не знаю как, но я неожиданно набрел на страшную мысль.
– Это не Лада! – сказал я тихо, но как мне показалось уверенно.
– Что? – поднял глаза от своих записей уставший за день полицейский.
– Лада не убивала.
Он долго смотрел на меня. И я решил: расскажу ему все. И опять стал выводить кружки на своем колене. Быстро-быстро мой палец бегал по кругу, а я думал – а где начало? Опять про Славика? Нет, и про папу не буду, и про Вовку. Пора покидать круги. Про доктора скажу, что маму обманул, меня в психи записал. А что про смерть его знаю? Знаю, что жена ненавидела и хотела, чтобы я тоже. Марсель, наверное, ненавидел. Но не объяснишь же ему, что от ненависти иногда умирают.
– Она ведь даже не знала где лежит пистолет, – нашел я вроде хоть что-то.
– Какой пистолет?
– Которым доктора… Он в ящике, в столе лежал, Алена Игоревна мне показала.
Полицейский немного оживился, отодвинул свои записи, смотрел на меня в упор.
– Кстати, Соболева утверждает, что у вас с ее супругом был затяжной конфликт, будто вы считаете, что он неверно вам диагноз поставил. Так это?
– Нет.
– Почему же она так утверждает?
Я пожал плечами.
– Еще говорит, что вы последнее время часто у них бывали, и у нее есть подозрение, что в один из визитов вы забрали ключ от их квартиры.
Я пошарил в кармане штанов, нашел ключ и выложил его на стол.
И всё, ни мыслей, ни слов.
Полицейский долго смотрел поочередно то на меня, то на ключ, а потом будто вмиг устал, и сказал молодому, который сидел за моей спиной:
– Ты домой собираешься?
Тот неуверенно ответил:
– Хотелось бы…
– Отвези парня домой и езжай.
– Из дома не выходить? – спросил я, уже поднимаясь со стула.
– Пока не выходи.
Я провел дома, за закрытой дверью, несколько дней. В полицейский участок меня не вызывали, сами ко мне не являлись.
Мама сменяла Марселя в больнице, Марсель маму, оба мне молча улыбались, а сами не забывали закрывать дверь на ключ и как будто что-то недоговаривали.
Хотел жить как прежде, как до кочегарки, как до Ладиного приезда – рисовать, тщательно убирать квартиру, подолгу пить с мамой чай… Я хоть и считался шизофреником, но я не сидел под замком, мне некого было ненавидеть, я ничем не мучился, я ко всему привык. А теперь, днем я убеждал себя, что я «нормальным» и собирался зажить жизнью всех нормальных – пойти учиться, наконец-таки спрыгнуть с маминого иждивения, найти серьезную работу, купить цветов и отнести их Вере.
Но ночью я превращался в преступника за запертой железной дверью. Только прибывал я не в тюремной камере, а в пыточной. Моя не состоявшаяся жертва ходит рядом, улыбается мне, носит в кармане ключ от этой самой пыточной. А я сам себе судья, надзиратель и главный свидетель. Я зарабатываю себе на свободу, размыкая круги. Учусь не прислушиваться к его шагам за стеною, не сжимать кулаки при звуке его голоса, не опускать глаз, встретившихся с его. Учусь любить Ладу, не ненавидя ее обидчика.
И однажды утром, собираясь в больницу, мама, наконец, сказала мне:
– Хочешь, Лешенька, со мной? Лада обрадуется.
– А можно?
– Можно, – впервые за долгое время искренне, радостно улыбнулась она.
Это значит, думал я уже сидя в такси, что у Лады действительно все хорошо, и что полный полицейский разрешил меня выпустить. Он нашел убийцу, и это оказался не я. Значит и с Розой все было по-настоящему…
В просторной больничной палате стояло две кровати, на одной лежала неподвижная бледная Лада, другая сейчас пустовала, на ней поочередно проводили ночи Марсель и мама. Я думал, что Лада спит, но на мамино радостное «смотри, кого я к тебе привела!» она еле заметно кивнула. Мама с порога принялась хозяйничать: поправила Ладе подушку, прибрала на прикроватной тумбочке. Я стоял у Ладиных ног, неловко поправляя спадавший с плеч белых халат.
– Леш, отнесешь поднос в столовую? Она будет справа, если идти… – мама еще долго объясняла, но закончила уже привычным «а, ладно, я сама».
– Привет, – Тихо сказал я Ладе, когда мы остались одни.
Она лежала по грудь укрытая простыней, и тела ее я не видел. А вот лицо… на него было неловко смотреть, и больно и жалко и стыдно признаться, любопытно. Ладу я только угадывал в нем – носа под белой накладкой почти не видно, под глазами синяки, губы обветренные, сухие.
– Привет, – тихо сказала она ими, и я сразу узнал ее голос, сдавленный, хриплый, но ее – садись.
Я придвинул стул стоящий неподалеку у окна к кровати, сел.
– Я в порядке, – говорила она с закрытыми глазами – в дерево врезалась. Подушка безопасности сработала, нос об нее сломала. Еще сотрясение мозга, и так, по мелочи, – помолчала немного и добавила – Марсель говорит, сделаем в Америке пластику, буду еще красивее – с трудом сглотнула слюну.
– Наверное, тебе тяжело говорить, – слезы наворачивались у меня на глаза, но Лада перебила:
– Все хорошо, – она чуть приоткрыла глаза, ресницы задрожали, а из-под них слезы. Одна за другой слезинки покатились по впавшим щекам – все хорошо – жалобно повторила она.
– Лада…
Что мог я сказать ей в утешение? Только и придумал:
– Накажут, виновных обязательно накажут.
– Никто не виноват. Дорога была скользкая…
– Убийцу доктора найдут.
Она с трудом открыла застланные слезами глаза. Белки налиты кровью. Я до боли прикусил губу.
– Это не важно.
– Нет, нет, – залепетал я – меня вот из дома сегодня выпустили, убийцу, значит, нашли…
– Это не важно. Я, наверное, посплю.
Лада повернула голову на бок и спрятала половину лица в подушке. Молчала. Я наклонился над ней и зашептал тихо-тихо:
– Я все знаю про доктора Лада, мне жена его все рассказала. Она сказала, что я нормальный, она…
– Да посадили ее уже – глухо в подушку сказала Лада.
– Кого? Алену Игоревну?
Лада не ответила. Я выпрямился на стуле.
– Арестовали? – Здесь «а» далась мне с трудом, получилась долгая, хриплая.
– Нужно же кого-то, – так же глухо ответила Лада.
– Она его ненавидела.
–Угу. Я спать буду, – будто из последних сил сказала Лада.
Я молча сидел у ее кровати, она лежала с закрытыми глазами.
Я смотрел, как мой палец медленно выводит круги на моем колене. И так же медленно и тихо я сказал ей:
– Она его ненавидела.
Я приоткрыл ей тайну, поделился тем, что понял однажды, тем, что теперь знал наверняка. Это – сложное знание, я добыл его с таким трудом, с такими потерями, ради него умерли, когда то трое. Я подарил его Ладе, пусть знает, что он ненависти умирают.
– Не она одна – еще тише моего, не открывая глаз, ответила она.
Мой палец замер на очередном круге, я долго выжидающе смотрел на Ладу.
– Ее арестовали – и опять эта «а»…
– Деньги решают все.
Последние Ладины слова слились со скрипом открывающейся двери. Мама пришла.
Еще какое-то время, я будто завороженный смотрел на Ладу. Мама снова поправила ей подушку, она рассказывала, что встретила в коридоре Ладиного лечащего врача, он сказал, что последние анализы у нее хорошие, и еще что-то, еще что-то…
Глава 7
Идти далековато, но не ехать жена автобусе, я давно уже на них не ездил, наверное, со школы. Обледенелый снег под ногами похрустывал, солнце – бледный круг. Что это вообще за солнце такое, если на него можно смотреть, не щуря глаз?
Я старался идти двориками, но иногда казалось вот-вот и заблужусь, выходил к дороге, а там суета: машины сигналят, выстроились друг за другом в ряд, люди с сумками, с пакетами, торопятся, задевают друг друга плечами – извините; нет, вы меня извините; смотри куда идешь… Чтобы не извиняться я осторожничал, пробирался боком, приостанавливался. А в пустых дворах бежал мимо одиноких качелей, безразличных квадратных глаз многоэтажек, спотыкался, но не падал.
Перед серым, строгим зданием даже не остановился, не дал себе отдышаться, вбежал.
Дежурный терпеливо выслушал, как сквозь прерывистое дыхание, я долго выговаривал свое имя, фамилию. Повторил за мной. Я кивнул – все верно. Тот сообщил обо мне в телефонную трубку, сказал, проходите.
Я поднялся на второй этаж, безошибочно открыл нужную дверь. В кабинете помимо полного и молодого находилось еще двое, тоже в форме. Все сидели за разными столами и, по-моему говорили, даже смеялись, я слышал это еще в коридоре. Когда я вошел все замолчали.
Переступил порог, один шаг вперед и оробел. Вытер ладошкой пот со лба. Рука холодная, лицо пылает. Это тебе не в школе у доски стоять, эти смотрят молча, даже сердито.
– Вы что-то хотели? – Наконец нарушил молчание полный.
– Алена Игоревна, – начал я с этого невероятно сложного имени, но говорил его долго, меня устали слушать и полный помог мне:
– И-и?
Пробираясь сквозь дебри букв, выдавливал из себя «А», свистел «С», мычал «М», стучал об зубы буквой «Т», но все же сказал, правда несвязно получилось и, наверное, бессмысленно:
– Арестовали ведь… А она не одна… Марсель ведь тоже…
– Что тоже? – спокойно спросил полный. Он опять выглядел уставшим.
– Не тоже, – исправился я, – доктора он убил.
– Алексей. Алексей ведь, да?
Полный взглянул на молодого, тот кивнул. И полный хотел продолжить, но я сказал раньше:
– Но он вам денег дал, чтобы вы его не арестовали.
Тишина в кабинете стояла напряженная, неприятная.
– Кабинет покиньте, – спокойно, но твердо сказал полный, он уже не казался уставшим.
А я стоял, как стоял. Я ведь сказал, то что нес сквозь толпу и уличную суету, мимо выстроившихся в ряд машин, одиноких качелей, и безразличных квадратных глаз этажек, по обледенелому снегу, под бледным кругом солнца, пробираясь боком, бегом, быстрым шагом…
– Вон! – крикнул полный.
Вздрогнул не один я, все присутствующие. А полный дышал, глубоко, шумно, будто это он бежал сюда несколько километров, а потом по ступеням на второй этаж.
Молодой встал, шумно отодвинув стул, подошел ко мне почти вплотную, взял меня за руку выше локтя и повел прочь из кабинета. Сжимал руку он не больно, да я и не сопротивлялся, только все оглядывался на полного. Так мы спустились с лестницы, и вышли на улицу, в холод.
– Не приходи больше, – сказал он, и отпустил мою руку.
– Он же ему денег дал.
Полицейский нахмурился, он мерз и явно не хотел разговаривать, хотел вернуться в тепло кабинета.
– Сесть хочешь? – спросил он беззлобно, голос трясся просто от холода.
Не хорошо с моей стороны держать его на холоде, и я отпустил, сам пошел прочь.
Теперь уже не я, а всё неслось мимо меня – город, его звуки, холодное дыхание. Оно плыло мне навстречу, вбирало в себя, оставляло позади, и я оказывался все дальше и дальше от участка и все ближе к дому. И что-то яркое, цветное, блестящее мельтешило вокруг, и улыбок больше чем обычно, шума.
Зашел в квартиру, торопился, волновался, уже хотел пройти в комнаты не разуваясь, но вовремя спохватился, снял ботинки. Навстречу мне вышла мама.
– Лешенька, – привычно приветствовала меня она.
Ее «Лешенька» всегда соткано из светлой радости и тихой, почти незаметной грусти. Наверное, мама сама вся из этого соткана.
– Марсель? – на «Ма» топтался так долго, что вроде и «мама» сказал и задал свой главный вопрос.
– В спальне, – и поколебавшись, добавила – Леш, я тебе после больницы, еще днем собиралась сказать, но ты куда-то…
А я уже шел в спальню, да мама и сама не договорила.
Марсель сидел на кровати среди раскрытых чемоданов. В руках держал рубашку, которую аккуратно складывал на коленях. Увидел меня, не удивился, лишь кивнул, утром же виделись.
А у меня сплошные круги, снова – переступил порог, один шаг вперед и оробел. Но Марсель – это не четыре пары сердитых полицейских глаз, он страшнее, намного страшнее. И чтобы заговорить с ним, понадобилась не смелость, не преодоление в себе школьника у доски, мне пришлось сжать в кулаках всю свою злобу, ненависть. И я сжал. Сжал так крепко и больно, что рукам впервые за долгое время стало тепло, даже горячо.
– Ты бьешь Ладу. Бьешь. Мою. Ладу.
Не с того хотел я начать.
Но теперь они вырвались из меня, эти звери, я держал в руках концы их поводков, но они чуяли свободу, бесновались. Дай им эту вожделенную свободу, и они разгромят весь дом, так, чтобы размяться, а я буду смотреть в ужасе, надеяться, что они от этого устанут, остынут. Но боюсь, их хватит на большее, боюсь, они не пощадят…
Марсель смотрел на меня спокойно, выжидающе, и глаза его казались уставшими, как еще недавно у того полицейского. Он перестал складывать рубашку, оставил ее лежать на своих коленях, сверху положил руки.
– Ты доктора убил. А жену его в тюрьму посадили. Потому что ты им денег дал.
Вот вроде бы и все, что я мог ему сказать. Но каждое мое слово сопровождалось глухим ударом кулака о стену. Бился зверь, сильный, неудержимый, и от каждого моего слова еще сильнее становился.
Марсель встал, бросил рубашку в раскрытую, голодную пасть ближайшего чемодана и направился ко мне. Подошел, секунды две, бесконечные, напряженные, страшные, смотрел мне в глаза. Потом в один шаг обошел меня, захлопнул дверь за моей спиной.
Клетку запер. Остался с моим зверьем один на один. Будто и не чуя опасности, он вернулся на прежнее место где только что две бесконечные, напряженные, страшные секунды смотрел мне в глаза.
Говорил он шепотом, шипящим, свистящим, сквозь сжатые зубы:
– Смотри, чтобы мать этот твой бред не услышала. Я только ради нее в это ввязался. Она же не переживет если тебя в дурке или в тюрьме закроют.
Марсель уже вернулся к кровати, сел на прежнее место, достал рубаху, которую складывал, когда я зашел комнату, управился с ней, взялся за следующую. А я все стоял на прежнем месте и слушал, слушал, слушал.
Разжатые ладони болели, ныли.
Внизу, стоя у подъезда, я вновь чувствовал в себе силы мчаться. Я будто уже только и мог, что бежать, нестись, стоять у порога, краснеть, заикаться, вот вам правда, держите, пожалуйста. А что, теперь, правда? Во что верят все – то и правда?
Я стоял у подъезда, растерянный, не зная куда бежать. Надо бы к Ладе, ведь не о Марселе она мне сегодня говорила. Говорила, что есть некто, кто ненавидел доктора не меньше его жены, кого не арестуют, за кого уплачено. И этот некто оказался я. А Марсель собирает чемоданы. Лада улетит в свою Америку и так и не узнает, что я не убивал.
Или бежать обратно, наверх, сказать ему правду, сказать спроси у Розы, сказать, что я нормальный, что нет во мне ненависти. Ни к кому…
Или к Розе, пусть скажет всем…
Или…
Уже темнело, но людей на улице не становилось меньше. Я бежал по освещенному фонарями и витринами городу. И если та, предыдущая, правда кипела во мне, бурлила, пузырилась, жгла, подгоняла, заставляла бежать все быстрее и быстрее, не чувствуя холода, то эта была тверда, она не ранила, не ощущалась инородным телом внутри моего. Она будто нашла во мне свое место, была со мной одной температуры. Стала частью меня.
Уже на месте, стоя у клумбы, я разглядывал окна. Свет не во всех, но мне во всех и не надо, я ищу только одно. Я его даже, по-моему, угадал, и свет в нем горел. Но на этот раз я решил отдышаться. Пару шагов вперед, а из участка, мне навстречу уже вышел молодой полицейский. Я остановился, он сам подошел.
– Ты что опять здесь делаешь?
– Сказать хотел.
Он долго смотрел мне в лицо, потом отвернулся, двинулся вперед, мне сказал уже на ходу: «пошли».
Мы обогнули здание полицейского участка, оказались на пустой детской площадке, освещенной лишь светом из окон старого трехэтажного жилого дома. Полицейский остановился у какой-то карусели.
Стояли лицом к лицу, он сказал:
– Соболева говорит, что во время совершения убийства находилась у старушки, у которой сиделкой работает. А старушка не в себе, не говорит, подтвердить не может. И никто не может. Значит, алиби нет. А мотив есть – банальный, но самый верный. И отпечатки кругом ее, и на орудии убийства тоже.
– И мои. Но это не я…
– Не найдено больше ничьих, – каким-то бесцветным голосом проговорил полицейский.
– Я держал его в руках, – зачем-то сказал я, хотя это все не имело значения. Я за другим пришел.
– Кого?
– Пистолет.
– Какой пистолет? Соболев скончался от потери крови, в результате удара ножом. Кухонным. Соболева ожидает суда. – Будто с бумажки зачитал он, а от себя только добавил – Обычное бытовое убийство.
– Понятно.
Мы молча смотрели друг на друга и я спросил:
– А деньги зачем взяли?
Он долго молчал, потом ответил:
– Нет никаких денег.
А деньги точно были. Потому что у меня так же, как у Алены Игоревны не имелось алиби (ведь Роза не подтвердила, нашего свидания), но имелся мотив (жена доктора уверила полицейских, что убитого я ненавидел). А еще я шизофреник. Думаю, такими доводами и оперировал полный, чтобы уверить Марселя, что это я должен сидеть и «ожидать суда». Марсель пожалел маму и дал полицейским денег. Ведь за большие деньги можно и выдуманную шизофрению лечить, а можно не садить в тюрьму и так невиновного человека.
Молодому, вижу, самому противно, а может страшно, и он сейчас стоит здесь, и говорит, что не было никаких денег.
И я хотел сказать ему в лицо, в его приятное лицо, в его лице всем, всем: и это я не нормальный?!
Глава 8
За окном шел снег, мелкий как крупа, белый, рассыпчатый. Дядя Паша наряжал ёлку. Где-то же нашел он ее – старую, маленькую почти лысую. Обматывал мишурой, на верхушку приделал единственную игрушку – шишку.
– Как? – довольно поинтересовался он.
– Красиво.
– Мне ж Анатолий твою получку не отдал – рассказывал он мне, будто продолжал начатое – говорит: «пропьешь». А я ж, что это, я ж твое разве могу?
Я оглядел нашу мужскую обитель, да, получка у дяди Паши состоялась, и обошелся он как то без меня в эти дни.
– Съездить надо? – спросил я.
– Дык не знаю, работают сегодня или нет…
Так вот чему они все вчера улыбались, они, как дядя Паша – искали елки, наряжали.
А деньги бы кстати, подумал я, куплю Вере цветов.
– Я сейчас, к Валентине сбегаю – сказал мне дядя Паша, вставляя руки в рукава своей старенькой куртки. Наверное, о праздничном столе суетился.
Я встал, нажал кнопку электрического чайника. Хотел ждать чай, глядя на качели во дворе, а ее оказалось не видно, подъехавший грузовичок мешал.
Через пару глотков горячего, сладкого чая вернулся дядя Паша.
– Лех, пойдем, там потаскать нужно, – он пальцем указал на грузовую машину в окне, которая мне закрывала вид на качели – денег подкинут – радостно улыбался он.
Оставил чай, оделся, в кармане куртки отыскалась шапка. А вот и деньги, на цветы подумал я.
Шел за дядей Пашей к подъезду с распахнутой настежь дверью. Из него вышла Вера, неся перед собой коробку. Встретились глазами, она улыбнулась.
– Что ты доченька, мы сами!
Дядя Паша забрал у неё коробку и понес к машине, сказав мне на ходу: «поднимайся, я сейчас».
Дома у Веры ругались. Пьяный отец мешал выносить вещи, рассказывал, что и за сколько он когда-то купил, а теперь эта женщина, которая испортила ему всю жизнь (Верина мама), все забирает и оставляет его не с чем. Верина мама отвечала, что давно пора, что, наконец, заживет по-человечески…
А в углу горела елка. Мы ходили мимо мигающих огоньков, отражались в разноцветных шарах.
Верина мама решила подарить себе в Новый год новую жизнь – человеческую, думал я, аккуратно поднимая коробку со стеклянной посудой. И у Вериного папы будет тоже новая, только, наверное, недолгая, потому что выглядел он очень плохо, как и его квартира – с разбросанными вещами и пыльными углами, которые раньше скрывала мебель. И снег выпал тоже новый, я, правда, такой не люблю, мне больше нравится, когда снежинками…
Несколько раз встречались с Верой в проеме распахнутой двери, я сторонился, пропускал ее пройти первой. И только раз коснулся ее плеча своим, мы встречались глазами, она улыбнулась. Не весело улыбнулась Вера, да и не мне, наверное. Наверное, своей новой жизни, подаренной ей на Новый год, или старой, в которой оставалась наряженная ёлочка из ее детства.