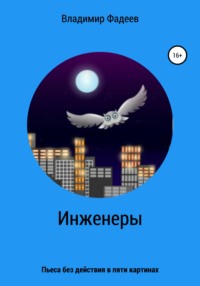Полная версия
Ясные дни в августе. Повести 80-х
Подтянула к подбородку одеяло, прищурилась на ещё раз вздрогнувшие шторы, на острый клинок открывшегося между ними тёмного просвета – вот он, кошачий глаз, следит! – подтянула ещё выше, спрятала корявую бородавку на правой скуле – тоже ведь маячок, зажмурилась до гуда крови в ушах, стараясь попадать в кровяной такт, неслышным шепотом без щелей и пауз закрутила заклинание из одного слова, которое только сначала было именем, снова привычным и понятным, но быстро превратилось в непрерывное пульсирующее жужжание, в пуговицу-волчок на нитке у завороженного ребёнка, и уже из него, из жужжания стала ткать перед собой образ, сначала нынешний – михрютки-полудурка с потухшим взглядом, не просто сгорбленного, а туго и хитро скрюченного, словно ржавый гвоздь в дубовом сучке, со странной гримасой, в которой главной деталью был рот, надорванный сантиметра на три к левому уху и сросшийся в вялую готовность к улыбке, улыбкой за эти недели так и не ставшей; потом уже, сдержав кислинку в уголках глаз, большим напряжением помолодила его на прошедшие двенадцать лет – не являлся он теперь сразу молодым, только через эту новую дверь-муляж, – потом раздела ржавую луковицу времени еще на два года, увидела его на крохотной покатой лесной эстрадке, украсила милое лицо таким привычным для пятисекундной паузы между двумя стихотворениями вдохновенный прищур – вперед-вверх, как будто пытался разглядеть на макушках тесно обступивших полянку ёлок самого Бога, отдыхающего от стыдного городского оробения, – полюбовалась толику мгновения, уменьшила получившийся образ до образка, до иконки, отодвинула её от себя к скрещению стен и потолка, с воздухом через одеяло набрала духовитых остатков живой его плоти и сухими губами вслед за ним начала приговаривать: «Нас поздно хватятся слова хорошие земля укатится в дымы горошиной исчезнет в мареве а как не хочется в белковом вареве остаться отчеством…» Молитва, как и положено ей из-под одеяла, читалась монотонно в длинную строчку одного выдоха, без особенного почтения к смыслу, смысл жил отдельно, он был гуще и сильнее произносимых слов, но сам по себе, без этого ритуального шевеления губами появиться не мог: «…остаться плесенью гранитов тёсаных а кто-то с песнями гуляет плёсами а кто-то парусом за ветром гонится в грядущих зарослях ничто не вспомнится но лишь не вздохами над строчкой писаной пусть мошкой-крохою над почкой тиссовой…» – перевела дух, потраченных на это секунд хватило подумать, что все же лучше было просто уснуть и проснуться уже в другом дне. Не в счастливом – какое! – в самом обыкновенном завтра. Счастья не хотелось, слишком яркое и поэтому наверняка обречённое состояние, вроде окорнованного павлина в одном поле со стаей гончих, спасибо, уже была, лучше уточкой в болоте, серой, под цвет отраженного в черной воде ненастья. Зря заставляла себя так долго спать утром – коротала, коротала день и выспалась! – утром не так страшно, утро можно было переждать, но зачем-то из последних сил лежала, вгоняла себя в рыхлеющий сон и только тогда встала, когда с той стороны век несколько раз подряд нарисовалась одна и та же история, как кто-то вместо неё, пока она тут лежит, идет-таки в избирательный участок и проставляет в её строку и фальшивоневинное «да» и палочку. И сразу Город начинает смеяться, и все подданные его взрываются хохотом, хватают за рукава, дергают за волосы, кричат: «Что, получила!.. никаких тебе завтра весточек, можешь не просыпаться… завтра вообще не для тебя, беги, ползи к своим конфоркам…» Собственно не сам утренний кошмар страшен, а то, что она его без конца вспоминает – оживёт… Такое с разными пакостями случается, и сколько раз уже случалось с ней в этом Городе. Приходилось бояться своих мыслей, и было так, что каких мыслей она больше боялась, те и табунились в её голове, удерживаемые умелым пастырем…
Отмеряла ещё одно дыхание: «…пусть дым рассеется и там за пологом любым растеньицем поднять бы голову пускай без милостей генеалогии вот только б вылезти из геологии в асфальт не стукнуться с огнём не встретиться листком аукнуться цветком ответиться пыльцой развеяться речными поймами как не надеяться что будем пойманы…» Какое-то слово показалось ей в этом кусочке странным, оглянулась и на последнем же слове споткнулась – «пойманы…» Нет, странным было не оно, слишком было понятно для странного, но тоже выламывалось, убегало от нужного, должного смысла в другой… Тихонько простонала, вспомнив, как пять дней назад Женька брыкался в коридоре и на лестнице и как вдруг обмяк перед «воронком», словно увидел в нём, или за ним, или ещё дальше – за отделением, за Городом, за резервационном сто первым километром… что? То самое что, которое уже ничто? Даже синие куклы слегка опешили – брыкался, брыкался… «Пойманы…» Нет, не то… а вот – «пыльцой…» Пыльцой… пыль-цой… пыль…цой… Непонятно… как из другого мира и времени. После третьего повторения слово распалось надвое и потеряло смысл, рассыпавшись двуцветными звуками по одеялу. Теперь хоть вслух, хоть фломастером на обоях. Сколько раз зарекалась не произносить слово часто без нужды и никогда не удерживалась от соблазна накачать его пустотой: было – и нет. Наверное, также Город поступает с людьми: попался три раза на глаза – и пропал. Исчез. И вроде бы никуда человек не девался, не погиб, не умер, он здесь – и нет. Пыль-цой… Ладно пропало слово, но ведь то, что оно означает, существует и без него! Только – что оно? Есть мир в словах, звуках, красках, есть мир в людях, а есть мир сам по себе – ни слов, ни звуков, ни людей, ни чёрного, ни белого, ни жизни, ни смерти… Без скелета имен он лежит дымящейся грудой и найдись новый демиург, слепить из него можно что угодно, он, дышащий силой всех когда-либо живших, готов к любому, самому страшному превращению, взрыву, и – она знала! – умерщвляя слова, можно самой касаться этой силы и даже не бояться Города, Города, где поэты называются тунеядцами, а осмелившиеся на слово тунеядцы – преступниками. Восемь плюс четыре с конфискацией имени. Вместо имени – живое клеймо, которое переползает на всех, кого – даже в добрую минуту, особенно в добрую! – касался локтем, рукавом или просто доставал ветерком заинтересованного взгляда… Но тогда страшно становится себя самой, страшно этого внезапного видения всего и вся, колдовской простоты исполнения своих желаний, беда только – и в них уже не отличить чёрного от белого, всё смешивается в гибельном азарте уходящих от погони, и лишь Город потирает тысячи своих пыльных ладоней… Как она возжелала, отблевавшись и отдышавшись, доли спасшей её женщины! Позавидовала… Мужу, с топориком и большой отверткой, испуганно сморщившемуся в кухонной двери… по чётным дням за ним к подъезду приходит машина… Сыну… пусть приёмный, пусть детдомовский крохаль оказался немым… тоже сунул тогда в её кухню пепельную кудрявую головку и неспокойно перекатывал расширившиеся до спелых слив синие глазищи с одной матери на другую: тик-так, тик-так… И ломающей натиск лет красоте – пучок и длинное крыло, всё ей! А вместо несуществующего Бога услышал её Город… Нет, нет, это не она виновата! и без неё люди здесь обречены: недобрые спасать друг друга уже не станут, а добрым Город оставил только один способ излечивать ближнего от проказы – брать проказу на себя. Добро сякнет, в обычных нерестилищах не воспроизводится… Или всё-таки она? Протянулась за помощью и выдернула с круга, а с круга столкнула на дорожку, которая для женщин круче, чем Большой Ванин…
А чем кончился тот шквал, всего месяц назад, когда незнакомый жалкий и старый, он стоял на пороге и не узнавал её, незнакомую, жалкую и старую, когда они шагнули друг другу на встречу и жёстко отскочили, – не так-то просто догнать вчерашнее облако! Вот оно, догнали, дождались, но… вчера плыл по голубому белый пуделёк, а сегодня ветер сплющил его, вытянул и на пару с другим же, закатным солнцем натыкал в длинную пасть кровавых клыков. Между ними стоял Город, и словами было не прорвать его студенисто-резинового задымленного тела. Нужно было кричать сквозь эту завесу или ещё лучше – ударить в неё, пусть с риском задеть, сделать ещё раз больно тому, к кому ты хочешь прорваться. Так она думала… и через час он уже избил её. Ел, не поднимая головы, молчал, спешно выпил три раза больше чем по полстакана редкой талонной водки – и она, она тоже! – когда охмелел, раздел прямо в кухне… а потом и избил, так же быстро и больно. Боясь завыть в голос, она сидела в углу под раковиной и давилась слезами, а он доедал мясо с её тарелки и без всякого выражения бубнил: «Так учили… небось есть за что…» В висок, как назло – Город любил посмеяться! по пояс влез в окно и настукивал ей в висок с издевкой: «Добрая, тебе не пел я песен голосом от юности пустым, о себе, что я красив и весел, что красива и печальна ты, что мы оба, в общем-то, похожи одинокостью своей на паруса: белый – я, беспечен и безбожен, алый – ты, божественно грустна…» А на третий день все же закричала, он только еще потянулся к ней синим кулаком, только сплющил распухший нос и выговорил грязное, а она уже заголосила, завыла – не от ожидаемой боли, от боли не плачут, от понимания, что двенадцать лет полужизни, дикого этого ожидания ничем не окупятся, что всё – напрасно, абсолютно всё, всё, безумное, гугольное всё, от первой капли дождя на мертвую доисторическую землю, до слезы ребенка. И воем своим заставила через щель меж кухонных панелей ушастого соседа нащекотать на диске две известные цифры, жестким же всхлипом подогнала вечно опаздывающих на вызовы синих кукол и была уверена, что сейчас же его и заберут – ему нельзя в Городе! – увезут еще на восемь и еще на четыре, пусть навсегда, не жалко, все равно это не он, оборотень, но старшина, искусный городской послушник, только подмигнул ей лукаво и довольно цикнул зубом, возвращая желтый клочек бумаги: «Ну-ну, поживи…те пока» А через неделю, когда талонные запасы иссякли и началась трезвая, куда как тяжёлая встреча, и она разрешила себе подумать, что всё это не сон, не пьяный бред и не легенда из другого тысячелетия, что это было, было с ней; когда она снова начала бояться: а вдруг… – старшина появился снова и теперь увёл. После двух часов недвижного стояния у окна до неё дошла чёрная городская шутка, и нечем было ненавидеть – тихо рассмеялась и как ни старалась вспомнить, чем этот гонец из подземелья мог быть ей дорог, вспоминалось только сидение под раковиной. Смахнула слёзы: ну и чёрт с ним! Распрямилась, насмешливо глянула Городу в глаза – одной, когда совсем-совсем не за кого, можно позволить себе роскошь не бояться.
…И тут же он появился в соседнем проулке…
Спросил про деньги. Столько у неё не было. И полстолько. И четвертьстолько, даже десятой части не было. Были только просроченные талоны на кукурузный крахмал, спички и, без указания на что, талон за утильное древнее тряпье, и было ещё два дня до аванса, который от требуемой суммы укладывался ровно в процент.
Тогда и он усмехнулся – так, что она узнала в нём настоящего Женьку, её гордого поэта, который не переносил обид, и если они случались, защищался от них именно такой усмешкой, – усмехнулся и на две недели затянул нудную песенку из с одного слова: «чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» – и опять: «чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» и ещё, и ещё, и ещё. Сидел у окна на табурете, медленно раскачивался взад-вперед с папироской в кулаке и пел: «Чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара..» Смотрел, как защищает от колобродящего во дворе февраля свою снежную берложку чудной упрямый пацанёнок и пел: "Чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» – и никуда это слово не исчезало, так как ничего не означало. «Чопом» он отламывал с муляжа неровные гипсовые кусочки и представал под ним дикарем-невольником, ничего не понимающего на этом берегу и занятого исключительно тем, чтобы вызывать и вызывать спрятанный за звуком образ берега другого, где никто не требует имени, где разодранный рот и есть настоящая улыбка. Замерев в тени коридорчика, она слушала и гадала, что же это за берег, где он начинается, напрягалась заглянуть в то далеко, а видела сквозь не вытекающую слезу только гугливую рожу Города – тут, рядом, за окном. Лишь однажды высветилась и лесная эстрадка, на краю которой, обняв гитару и прижав гриф колками к виску и щеке, стоял кудрявый юноша и читал… Он всегда сначала читал, потому что ему было что почитать, потому что кроме, как в лесу, читать было негде – Город поэтов на дух не переносит, и ещё потому, что лучше, чем эти, вырвавшиеся из каменных тенет непослушные дети, продрогшие и продымленные, слегка ошалелые от неожиданной, но, значит, всё-таки возможной, существующей воли, слушать никто не умел: во всяком слове, начинавшемся не с «Да здравствует!..» они, брезентовые беглецы, уже готовы были слышать откровение и живую истину. И слышали. Он читал, все замирали, но от эстрадки в стороне, сбоку, сбоку, в проране расписной штормовочной кольчужки поляны тихо шептались две те самые куклы, прикрывшие синюю казенную кожу похожими на штормовки гороховыми фуфайками:
«…а не надо дожидаться, когда они станут, наваландаешься потом по англетерам… зарань надо, пока они простые женьки, сеньки да серёньки…»
«А вдруг…»
«С нас-то какой спрос? Ну, шатался по лесу какой-то бродяга с гитарой…»
«А отличить как? Какой станет, какой нет…»
«Не в носу ройся, слушай. Как захолонет меж рёбер, будто дырка в фуфайке – наш…»
«А вдруг не захолонет, вдруг мимо просклизнёт?»
«Всё у тебя вдруг…Не просклизнёт, с запасцем загребём…Ты чего тут, девочка?..»
Было? Или это придумалось, приснилось ей потом? Увиделось? Но ведь и он их видел, своими чистыми синими лазерками видел их на двенадцать лет вперед, на лестнице, в подъезде вон у той, нахмурившейся его стихам девчонки, один будет бить ребром ладони по шее, другой шипеть сквозь зубы: «Каз-з-зёл!» Видел, знал, что они уже от него не отвяжутся, и уже тогда безнадежно молился такими ясными воспоминаниями о своем будущем: «Выпусти!» Все было правдой, только еще не наступившей и в то же время давным -давно уже правившей тем миром… на виске от колков останутся три долгие красные запятые… «Пуст я как мяч, как бездонная бочка, как роженица, как скрученный тюбик. Лишнее слово, ненужная строчка, ночи загубленной стылые губы… Вот у гитары болит поясница, зубы колков раскрошились до срока, смотрят неладно ладовые лица, нижнее «мы» дребезжит одиноко, – фуфайки начинали топтаться, ей приходилось вставать на цыпочки… – Вот – не поётся, не пьётся, не спится, прежняя злоба выходит изжогой, каяться рано, поздно молиться, да и едва ль докричишься до Бога. Не растрясти его жалким фальцетом, верхние ноты завалены нижними, тонкие нервы сжаты пинцетами, толстые – сдавлены пассатижами. Долго до света, Господи, долго… Выпусти – вылечу! Вылечусь, выпусти из-под спокойствия душного полога, из духоты изнуряющей сытости. Выпусти! Видишь, как в омуте Города вздохами дальними, криками ближними люди друг в друга тычутся мордами, плавятся свечками, давятся вишнями, бьются, едятся, ломаются, гнутся, прячутся в рачницу липовой милости, лишь перед самым концом встрепенутся и завопят истерически: Выпусти! – фуфайки стояли смирно, прижав локти к бокам, но распрямив плечи, и ей казалось, что теперь дочитать они могли бы и сами: – Выпусти! – Выкуси! Бейся меж рёбер! Выплеснись, выцедись сеткою трещин. Ты сам себя ни за что покоробил – лишняя строчка, ненужные вещи. Вещее, но – бесполезное слово, толка из слова током не вытрясти… Но все равно повторяется снова: Выпусти! Выпусти! Выпусти! Выпусти!.. Не верещи, ты давно уже выпущен. Вытащен, изгнан, свободен, бездомен, вылизан, выеден, выпит и вылущен… Что ж, не выпусти, так наполни!.. Полноте, завтра закончим страницу, пойте, играйте, попрыгайте скоком… Но у гитары болит поясница, зубы колков раскрошились до срока…»
Не выпустил… «Чоп-сара…чоп-сара…» А может быть – не было ничего? вычитала или выдумала, или приплыла к ней по крови древняя легенда в ста одежках – как любили, как разлучили и так далее? Мальчишечка тот? Да, забрели еловой ночью к ним на костер, скоморошили, нет, это приятель его с девицами все каламбурили, а он только спел про друженьку… как же?.. «Друженька хорошенький, друженька пригоженький, что на друженьке кафтан темно-синего сукна…» и уставился на огонь, – она еле оторвала его взгляд от нервно переговаривающихся красными, голубыми и жёлтыми сполошками углей, без всяких «чуфырь», – она была красивой девочкой. Очень красивой, – говорила соседка учительница, говорила с доброй учительской лаской, за которой не слышно похвалы впрок, которой можно верить, – особенной красотой, с пронзительной правильностью и тонкостью линий, кажущейся вечной и – в этом же взгляде – необыкновенно хрупкой, готовой рассыпаться от вздоха случайно пролетающей мимо синицы. И рассыпающейся… Да, на малом, очень малом перелёте она обращается в свое отрицание. При тех же тонких, совершенных линиях, вот разве что чуть сузились, вызмеились губы, чуть просел перед самым кончиком абсолютно для легкого взгляда незаметно заострившийся нос, и – по той же ясной реке – но только по направлению к мутной бездне поплыли глаза… А дальше – хуже: и на скуле корявая бородавка, и при всяком намеке на улыбку из-под верхней губы высовывается острие левого клыка, редеют каштановые рощи и безвольными плоскими пегими плетьми стекают с висков на косо торчащие ключицы. И не утешиться тем, что красота настоящая – именно потому, что преходящая… Дьявольская красота. Все юные колдуньи ослепительны, так же, как отвратительны старые ведьмы, или как милы и симпатичны старушки, неказистые, нелюбимые в юности.
…Девицы взвизгивали, мучили голоса на забористых припевах, лазали, картинно изгибаясь, прикуривать к костру, но Женька был уже не их… Мальчик с быстро краснеющими щеками, он запинался каждый раз, когда переходил на прозу и нёс такую милую околесицу про свою любовь, что сам смеялся, как он говорил – «отсмеивал глупость».
– Какой этот ёрш при тебе сафьяновый!
– Она ж колдунья! Чуфырь, уфырь… будешь сафьяновый…
Смеялись. И она смеялась, что ж не смеяться: уже виделись ей высоченные розовые туфли и длинное под цвет им розовое платье – пропуск в рай…
Смеялись? А под раковиной убедилась окончательно, что красивой быть нельзя. Только содружество уродов может быть прочным, в красоте зреет горе, другое дело, если бы однажды утром все люди проснулись одинаково красивыми… но тогда чем бы они отличались от себя же одинаково уродливых? А начала об этом думать – и обе недели кормила себя этими мыслями в абортарии, куда с вывернутым, выпотрошенным, вычищенным чревом её додумались запихнуть на отлёжку после первого газа. Вокруг все были красавицы, они шушукались за спиной и пусто узили глаза при встрече… Город знал своё дело. Красавицы… А у неё порвалась жилка – сделалась старухой в главном и быстро начала стареть во всем остальном. Пустилась в неожиданный рост изящная темная родинка – сначала из неё вырос волосок, потом начала бугриться кожа, а теперь вот – бурая противная корявая бородавка, комочек прилипшей грязи, плевок Города. Какое жуткое превращение, какие разные слова: ро-дин-ка… бо-ро-дав-ка…Родинка-бородавка… Родинка, родинка, родинка, – повторяла несколько раз и, как обычно, настоящий смысл вытекал из слова, мгновение оно оставалось пустым, а потом наполнялось другим, уменьшительным от большого, сильного слова. И страшно было не то, что никак не могла выбраться обратно, а то, что и на большое слово по паучиному переползала возможность жуткого превращения… в городавку, в Город…
Не спрашивала, за что он её. Знала – за то, что стала старой – это-то он видел, а остальное, что не видел и не знал, было ему не интересно.
И счастливой быть нельзя – Город терпеть не мог человеческого счастья, больше счастья он не мог терпеть только неторопливую прямую походку – согнувшись и озираясь – вот как должна течь кровь в его темных фибрах, бегом или ползком, хоть задом вприпрыжку, но ни в коем случае прямо и неторопливо! Она слышала, как шипел он на них струями тротуарной пыли, как швырялся клоками нечитанных газет и плевался колесной грязью, когда они шли или целовались прямо на автобусной остановке, – натасканные на счастье пьяные юнцы дожидались во дворах и подъездах… А ночью того дня, когда были куплены высоченные розовые туфли, Город, при спокойном звёздном небе почти до утра выл сдираемыми с земли метелями, царапался в двери и пищал в каждой оконной щели… и потом вдруг стих… Наверное тогда ей в первый раз по-настоящему сделалось страшно. Это сейчас она знает, что жить – это бояться…
Был самый-самый-самый холод, а Город на три дня отобрал свет, воду и всякое тепло. Перестали дымить никогда раньше не смолкавшие трубы, а единственная бездымная, цеплявшая облака, зловеще задымила. Выпал снег и лежал чистым. Стало страшно. Маму увезли в больницу, она плакала и просила не отдавать её врачам, но ей сделали укол и увезли. Обрывался сеанс, – больная мать открывала ей дверцу в еще один тайник их человеческой силы: в большом секрете от Города с пяти раз заговаривали доброй соседке женское несчастье. Всем троим непросто дался этот шаг: через давний зарок переступала мать; боялась огласки, а пуще – лишиться последнего шанса с колдовской неудачей боялась строгая учительница, и стыдно ей было девочки, которая лежала рядом и потела вместо нее, и просто страшно – всего! – было самой маленькой колдунье: за маму – зарок есть зарок! За туфли свои… а вдруг? Холода боялась, как знака, а потом – что не сумеет закончить одна, не сумеет, не сумеет!.. половину силы тратила на то, чтобы убедить себя и, главное, вконец потерявшуюся, смятую женщину не отступаться от начатого, внушить, что всё будет хорошо, но едва разогревались до звона в перепонках растопыренные ладони, и в ледяной комнате становилось жарко, едва начинала биться между виском и затылком кровяная волна и влажнело лоно, раздавался настойчивый звонок – являлся Женька. Он бестолково оправдывался, ничего не хотел понимать и уж, конечно, не соглашался прийти завтра. Колдовство шло вбок, закручивалось в какую-то немыслимую петлю, которую ни распутать, ни отцепить от недалёкого будущего было уже не под силу. Стало страшно… три ночи Женька жил у неё, и она не гнала, хотя точно знала, что пока нет его у себя дома, Город не теряет времени – он вполз в уши двух пуганых стариков и свил в их головах два гнездышка с ядовитыми мыслями. Стало страшно… и каждый из этих трех дней он читал ей из креслица новое, слёту и набело написанное стихотворение, которое было ни чем иным, как удачно, может быть даже талантливо зарифмованная её ночная молитва о нём, о них…
Кинжал синего просвета задышал, то удлиняясь до меча, то прячась в ножны штор. «Грозит», – догадалась и зашептала дальше, быстрей: «…пусть перескажется пусть хоть подопытным вот только б саженцем не быть растоптанным вот только б семечком не быть проглоченным не сунуть темечко косе отточенной…» – и снова ей послышалось странное слово, и не одно, не два – все, показалось, что раньше в этой молитве были совсем другие слова, не эти, и смысл был иной. Какой? Образок в темном углу молчал. Ладно, пусть, дальше, дальше!.. левая штора мерно волновалась, холодная струйка воздуха, как чья-то ищущая рука провела по лбу, словно примериваясь… дальше! Дальше!.. на месте слов была пустота – и сзади, и спереди… Отчего их так стало много – странных, непонятно звучащих слов? Ведь всё из-за них. Зовут, просят повториться, чтобы выпутаться из силков, не повторишь – занозочка остается на сердце, будто не помогла маленькому плачущему человечку; кинешься выручать, разгребешь ватное облачко – а там пусто, как сейчас. Вспомнила – сама шутила над Женькой: он принимался читать, сначала медленно, чуть не шепотом, боясь далеко отпускать стихи от себя, лицо его бывало почти бесстрастно, лишь эта опасливость – а вдруг убегут? – подёргивала ресницы прищуренных глаз, стерегущих, да в уголках губ была приготовлена усмешка на случай страховки от конфуза. Она пускалась в чтение вместе с ним, угадывая все паузы, ударения – звук в звук, след в след и вдруг заставляла себя пугаться: забыла! Весело ей было смотреть, как потешно хмурился её славный гордый поэт, тёр переносье, вставал, подходил к окну, смотрел на близкий безоконный торец соседнего дома и, воссоздавая упущенную ритмику стиха, постукивал по подоконнику. Потом виновато улыбался и, не замечая её лукавого смешка, спрятанного под прикушенной губкой, начинал снова, сначала или с середины предыдущей строфы, с расстояния, достаточного для разгона: «…похвал приятных душ дороже, чем стихи, ладони наших душ в занозах чепухи. В реке пустых минут, как в сумраке густом, и нас перевернут прочитанным листом. За окнами гроза, а мы сидим в тепле, лишь наших душ глаза опущены к земле. Потом года с ленцой следы от нас сотрут, мы были не…» – и снова застывал. Зачем она это делала? Ведь не было ж светлей, дороже минут, чем эти минуты сидения друг перед другом, с плохо скрываемым его волнением перед единственным его слушателем, их бы беречь, не дышать, пока не иссякнут сами, а она… шутила, и с чем! С чем шутить никак не следовало б – с забыванием. Усмешка не спасала, Женька краснел, качал головой, чтобы стряхнуть румянец, бормотал: «Что-то я…» и смотрел с вопросом: не помнишь, что тут за слово спряталось? Девчонка! Подбегала, зацеловывала свою маленькую вину… «А-а!,» – вскрикивал он, – потом года с ленцой следы от нас сотрут, мы были не пыльцой, а пылью на ветру, но все играют туш, несут венки из трав, а спины наших душ согнулись от неправд…» Нет, нет, она же не просто посмеяться! Она хотела рассорить его с мрачным пророчеством, потому что знала наверное, пиши он вместо «следы от нас сотрут» – «…в светлое завтра мы вычертим путь», для него могло бы наступить и светлое завтра. Не рассорила – поэты лучше знают своё завтра. Теперь-то глупо морщиться в горьком облачке воронкового чхания: «Накаркал!» или фальшивиться с замиранием: «Ах, пророк!». Какой уж пророк! Просто мальчики–поэты живут в своем особенном времени, которое только и есть настоящее. Другим обязательно нужно дождаться, пока молоточек метронома дотянется до их пластилиновых судеб и оставит вмятину-метку, они пощупают, обмеряют её и выставят миру: вот каково наше время! А у поэтов души зрячие, они видят раскачку маятника и уже страдают от боли неизбежного удара – своей, чужой, – боли еще не наступившей, но именно она, будущая боль и есть их самое настоящее настоящее. Еще только отвязывают канат от чугунного языка, а колокол уже набух звоном, удар не рождает, а только освобождает скопившийся звук. Поэтому он и усмехался так обречённо на её заступничество перед Городом – поздно. Врут мудрецы, что есть время жить и время спасаться… пожил – потом спасайся на здоровье! Потом – значит никогда.