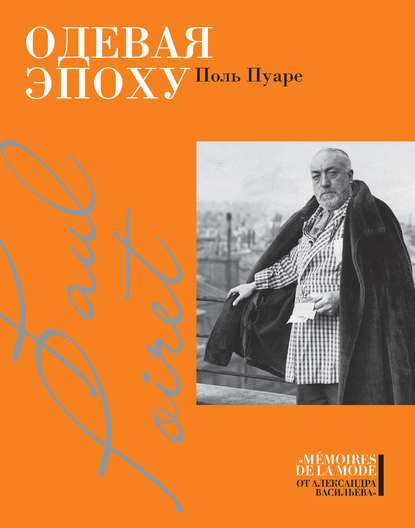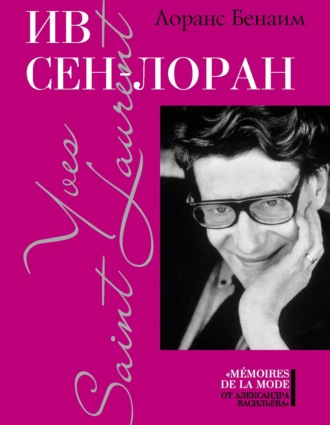
Полная версия
Ив Сен-Лоран
Ив наблюдал, запоминал, сравнивал прекрасное с красивым, а красивое с подходящим… Ему удалось примирить противоречия, когда рисовал то в манере Баленсиаги, то Живанши, то Диора. Одна Шанель не рисовала, она кроила напрямую. Диор, наоборот, обожал эскизы. Он часто проговаривался, что рисовал везде: в постели, на ходу, в машине, днем, ночью. Из этого выходили настоящие «гравюры моды», в которых были сосредоточены идеи его моделей: «Рисунки могут быть иногда бесформенными, иногда точными. Они всегда появляются из-под моей счастливой руки от случайного морального или физического настроя, в котором я нахожусь. Важнее всего, чтобы они были выразительными. Большая ошибка преподавателей рисунка моды – учить делать чертежи и абстрактные схемы. Для того чтобы возбудить мое вдохновение на создание модели, нужно, чтобы эскиз намекал на походку, внешность, жест. Он должен содержать в себе силуэт в действии, должен быть живым»[104].
Ив был чувствительным к такому языку, он питал любовь и к моде, и к театру. Навязчивые идеи следовали одна за другой. Его привлекали переживания новых сценических героинь. Например, Люсиль кончает с собой от того, что не может вынести крушения своих идеалов. Он испытал шок от спектакля по пьесе Жироду «За Лукрецию», костюмы для которого сделал Кристиан Диор, где Мадлен Рено, Жан Дессайи, Симона Валер и Эдвиж Фёйер играли главные роли. Это драма чистоты, которую обжигает дьявольское солнце: «Ваша сдержанность, ваше целомудрие – это всего лишь неумение привыкнуть к своему полу»[105].
В фотографиях со спектакля юный Ив нашел для себя сценическую магию: бархатные драпировки, бледные руки, обрамленные белыми рукавами платья, черная вуаль… Подросток был ошеломлен пьесой, переписывал ее и иллюстрировал, точно сам хотел вдохновить зал своими рисунками. «Чувство ада – вот что ты привнесла в подсознание и невинность… Чистота, как и святость – это избыток воображения…»
Его видения увлекали его и пожирали, наполненные монашками с кругами под глазами, которые стегали плетьми продавцов спичек, а вот и девушка пятнадцати лет «с отмороженными ногами и потрескавшимися руками». «Чепчик монахини так же бел, как нижнее белье девушки». Ив видел «явь нищеты, голой и кровавой», писал он «о ночном насилии» и запрятывал свои сны и кошмары в ткани:
Одетый в кровавые и черные лохмотья сатинаДень встает,Мертворожденный день, лихорадочный и бледный,Чье маленькое телоВезде мелькает, как призрак,В сером саване.У себя в комнате Ив все время рисовал и писал. Между ним, худым подростком, и директором журнала Vogue, довольно полным человеком, установился эпистолярный поединок. Мудрость зрелого человека противостояла пылкости вдохновенного юноши, который рисовал фигуры Богоматери и Дьявола. «Мой дорогой Ив, – писал ему Брюнофф 6 мая 1954 года, – поскольку теперь у нас довольно регулярная переписка, я могу называть вас по имени? Продолжаю выражать вам свои комплименты. Меня очень заинтересовали фотографии ваших картин, которые вы вложили в последнее письмо. Разумеется, довольно сложно высказать серьезное мнение о картинах по фотографиям, где не виден цвет, но сразу понятно, что вы любите то, что делаете, и любите работать. Я бы дал вам совет как можно больше писать с натуры либо портреты, либо натюрморты, пейзажи, ню и т. п. Необходимо укрепить рисунок знанием, которое позволит реализовать любую фантазию…» Он продолжал: «Ваша Лукреция меня очень заинтересовала, хотя я нахожу иллюстрации немного преувеличенными. Я был бы рад, если бы вы сдали экзамен и смогли сосредоточиться на своем творчестве…»
Ив Матьё-Сен-Лоран ответил ему только в конце июня, сообщив, что «результаты экзаменов совершенно удовлетворительны» (он получил аттестат, но без сопроводительной отметки) и что приедет в Париж осенью. «Мои планы пока расплывчаты. Я бы хотел, по примеру Берара, заниматься многими вещами, которые для меня взаимосвязаны: театральные декорации и костюмы, дизайн и графика. Также меня очень притягивает мода, выбор карьеры произойдет наверняка от счастливого случая в той или иной области…»
В сентябре 1954 года он приехал в Париж и поступил на курсы Профсоюзной палаты швейной промышленности. Это путешествие не так взволновало его, как первый приезд. Теперь он был один, без Люсьенны, любившей удивлять и очаровывать. Он снял комнату у вдовы генерала мадам Бюиссон по адресу: 209, бульвар Перейра, в XVI округе Парижа. Через свою модельершу, мадам Мадлен, хозяйку магазина «Мадлен Кутюр», Люсьенне удалось хорошо организовать жизнь сына. Симона, подруга детства Ива, тоже только что получила свой аттестат зрелости и уехала из Орана, чтобы продолжить учебу. «Он увидел нас и засмеялся. Он смеялся над тем, как мы были одеты», – вспоминала Симона. Перед отъездом Ив заказал для нее у любимой модельерши своих сестер Мадлен Монтье красную юбку, серый пиджак и немного одежды для ее будущей жизни в пансионе при версальском лицее. Иногда они встречались и ходили в кино, но встречи становились все реже, хотя дружба сохранилась. Это было похоже на театральную сцену, где прожекторы освещают по-разному каждую нарисованную часть здания.
В школу Профсоюзной палаты швейной промышленности Ив был записан отцом, Шарлем Матьё-Сен-Лораном, во время одного из его парижских путешествий. Она была расположена по адресу: улица Сан-Рок, дом 45, возле сада Тюильри. Школа была основана в 1927 году, там учились тридцать учеников, в основном девушки. Дамы с серыми шиньонами преподавали кройку, патронаж, рисунок, историю костюма. Ив очень скучал на этих уроках… И все же он был в Париже! Почему же тогда эти дамы-преподавательницы казались ему такими пресными? В их взгляде он прочитывал неприязнь: они-то знают, что эти парни, которые на самом деле любят безделушки и цветы, будут первыми, кого возьмут кутюрье в свои мастерские, хотя девушки куда достойнее. В этой школе было строгое расписание, приучали сдавать работу в аккуратном виде и тщательно подготовленную. Дурацкие лампы, подходившие для освещения двора, освещали заполненный учениками зал с манекенами из конского волоса, где гладили одежду газовыми утюгами.
От этой школы у него не осталось ни воспоминания, ни рисунка, но там он познакомился с Фернандо Санчесом[106], тоже худым юнцом в темном костюме. Он тоже любил Кокто, Берара, Мориса Сакса[107] и жил в Париже один, но у него была своя студия на улице Дофин. Вот и первая парижская дружба. Она будет первой и самой долгой, пройдет через десятилетия по маршруту Париж – Нью-Йорк – Марракеш. «Я бываю либо равнодушным, либо верным. Мы оказались соседями по парте. Он поймал звезду с неба и держал ее в руке. Мы стали близкими друзьями».
Родившийся в Испании, выросший в Антверпене, Фернандо провел свое детство в среде испанской эмиграции. Его мать заказывала себе одежду у Баленсиаги, и он вспоминал полдники, где были дамы из испанской аристократии, похожие на больших ворон. Мечтая, как Ив, о красках и свободе, он приехал в Париж, чтобы поступить на работу к Жаку Фату, «который попросил его приехать». «Ив, – вспоминал Фернандо, – вел себя как звезда и требовал внимания». У них обоих был стремительный взгляд, они не сдерживались и смеялись во все горло, словом, злоупотребляли, как многие юнцы, высокомерным поведением, чтобы отомстить за свою непризнанность: «Все в школе нас ненавидели. Они нам говорили: “Вы двое, вы считаете себя звездами”».
События стремительно развивались. 25 ноября Ив одержал долгожданную победу. Он получил одновременно 1-й и 3-й призы в категории «платье» Международного конкурса шерстяной промышленности. Теперь он стал самым молодым лауреатом престижной премии моды. Из шести тысяч эскизов, присланных анонимно, были выбраны только семь. Три из них принадлежали Иву Матьё-Сен-Лорану. Второй приз за эскиз пальто ушел Карлу Лагерфельду[108], двадцати одного года, родом из Гамбурга, обосновавшемуся во Франции с 1952 года. Ив же был удостоен чести быть процитированным в радионовостях жизнерадостным голосом диктора: «Восемнадцатилетний талант блестяще победил в двух номинациях. Благодаря Иву Матьё-Сен-Лорану Северная Африка заработала одно очко, обыграв метрополию в модных соревнованиях».
За столом жюри, кроме представителей прессы, находились Жаклин Делюбак, Пьер Бальмен[109] и Юбер Живанши, чьи мастерские и реализовали модель начинающего кутюрье… «Я счастлив», – признался лауреат в интервью дебютирующей журналистке Жани Саме, которая выпустила свою первую статью в газете L’Écho d’Oran. Она пиcала: «Ему восемнадцать лет, у него внешность студента из Института международной политики, серьезного и замкнутого. Его революционные идеи в области моды таковы: “Быть элегантным, носить ослепительные платья, которые не носят два раза. Я люблю эксцентрику, смешное, неожиданное… Это черное изогнутое платье с оголенными плечами сочетают с длинными перчатками в духе певицы Иветты Жильбер, а на перчатках небольшой страз… Моя мечта – стать модельером в крупном доме мод. Да, создавать веселые, живые платья, на которые люди оборачиваются; придумывать смелые аксессуары, бижутерию в стиле haute couture, они куда более интересны, чем настоящие”…»[110]
Ива Сен-Лорана чаще всего можно было застать за кулисами «Комеди Франсез», нежели на уроке кройки и шитья, он жил одной амбициозной мечтой – театром. «Рисовать декорации и сценические костюмы, находиться в постоянном контакте с публикой, которая восхваляет или порицает…» Его отец хотел, чтобы он стал нотариусом. «Он совсем не верил в мое призвание, – говорил Ив с насмешливым видом человека, взявшего реванш, – Теперь он смирился и согласился с тем, что я единственный художник в семье»[111].
Чек, который получил Ив Сен-Лоран, стоил в реальности больше, чем 300 000 франков. Он увенчал годы тайной борьбы, годы вызова, абсолютного отказа от жизни. Ив знал, что никогда не будет одним из этих честных женихов, трудяг, уважающих своих тестя и тещу, не будет мальчиком, о котором мечтают шикарные девочки. Между ним и отцом что-то произошло, но что? Ив воспринимал отца так, как Эмма Бовари смотрела на своего супруга: с раздражением, что приводит к страданию, вместо того чтобы его прогнать. «Она бы хотела, чтобы Шарль ее бил, это дало бы возможность справедливо его ненавидеть и мстить ему».
Подросток иногда доходил до отчаяния из-за своего отца: он громко говорил, слишком напыщенно одевался, выходя в свет затянутый в смокинг, в рубашку с белым стоячим воротничком, который перерезал ему шею надвое. Шарль Матьё-Сен-Лоран однажды ясно понял, что его сын никогда не продолжит их род. Отец, выросший в уважении к семейным традициям и считавший своим идеалом наполеоновские победы, оцепенел от этого откровения. Как будто компенсируя свое частое отсутствие, Шарль, иногда строгий, но, по признанию дочек, «мягкий человек», заботился о нем, оберегал, делал все, что необходимо, несмотря на то, что это уже было поздно. Ив постоянно искал эту защиту позже, несмотря на отвращение, которое вызывали искренность и добрые чувства отца.
Шарль Матьё-Сен-Лоран понимал, что он ничего не понимает, но смирился и продолжал упорствовать. Этот уважаемый человек – единственный в семье, кто думал, что сын страдал от еще более мрачной болезни, чем это бывает в богемной среде, у артистов. У него не было к ним никакого уважения, ведь они ведут жизнь разгильдяев. Он целомудренно говорил о робости, а в XIX веке это еще называли «нервами».
Ив не сдал экзаменов на диплом, потому что так решил. Для этого были причины. Он погрузился «в глубокую и темную пропасть, в сумрачные коридоры» своего одиночества. После эйфории первых парижских месяцев на него напала страшная тоска, она застряла в горле, как запах телячьих котлет, которым были пропитаны лестничные клетки XVII округа Парижа. Он жил в приличном районе, здесь росли старые деревья, похожие на гребенки без зубьев, по улицам ходили женщины, чувствовавшие вину за ошибки, которых они не совершали. Да еще поезда проходили под бульваром Перейра по железнодорожным путям, они будто зачеркивали неустанно идущее время. В своей студенческой комнатке избалованный принц столкнулся с воскресной скукой. Он даже не знал, что обеспокоенный отец написал письмо Мишелю де Брюнофф. Оно датировано 14 января 1955 года.
«Дорогой господин Брюнофф, прошу прощения, что обращаюсь к вам, не имея возможности знать вас лично, но ваша любезность по отношению к моей жене и внимание, которое вы соизволили оказать моему старшему сыну Иву, меня к этому побудили. Мы получили от него два первых письма сразу по приезде в Париж, после рождественских каникул в Оране. В них появилась горечь, какой не должно быть после воодушевления первого триместра учебы и того энтузиазма, который им овладел после победы в конкурсе шерстяной промышленности. Во время каникул это вдохновение еще наполняло его, и он был полон проектов. Я прекрасно осознаю, что такое уехать из дома в студенческую комнатку и вспоминать о двух праздничных неделях в компании своих старых друзей. Когда это теряешь, приходит тоска. Он даже сам об этом написал, а уроки не могут достаточно заполнить его время. Каждый день он ищет себе занятие, чтобы не было пустоты и тоски. Вы, наверное, заметили его робость, его боязнь быть в тягость, именно поэтому, учитывая большое доверие, какое, как мы знаем, он испытывает к вам, я прошу вас, как только увидите его, дать ему совет и по возможности немного встряхнуть. Я думаю, что в таком юном возрасте у него должна быть работа, и только вы один можете ему в этом помочь, найти работу в той профессиональной среде, которую он выбрал. Простите меня за столь длинное письмо, и прошу не говорить ему о нем. Благодарю вас за все, что вы сделали для него, и за то, что можете еще сделать. Примите, дорогой господин Брюнофф, заверение в моих лучших чувствах».
Мишель де Брюнофф ответил Шарлю Матьё-Сен-Лорану не сразу, а месяц спустя, 16 февраля 1955 года. «Вы наверняка уже знаете от вашего сына, что я был довольно болен после очень серьезной операции…» Он рассказал, что недавно помог Иву попасть за кулисы «Комеди Франсез», благодаря помощи Сюзанны Лалик, «очень талантливой женщины», она была автором сценографии и костюмов для спектакля «Мещанин во дворянстве». «Сюзанна Лалик сказала, что очень сложно устроить вашего сына туда на работу, ибо “Комеди Франсез” – очень регламентированное учреждение, но она пообещала организовать ему проход в театр, чтобы он присутствовал на монтаже декораций, что может быть очень интересным для Ива и где он может познакомиться с людьми, которые могут быть полезными в будущем… Я пользуюсь случаем, чтобы сказать, насколько ваш сын мне симпатичен, я вижу в нем талант и сделаю все возможное, чтобы он нашел свою дорогу и чтобы его пребывание в Париже привело к успеху…»
Ив продолжал работать, наблюдал. Он снова появился у Мишеля де Брюнофф и показал ему пятьдесят набросков, сделанных в Оране: удлиненные силуэты с узкими и почти плоскими бюстами. Потрясенный тем, что эти рисунки похожи на модели Диора силуэта А[112], директор Vogue тут же набрал номер телефона известного кутюрье. Вскоре Эдмонда Шарль-Ру[113] получила письмо в Италию: «Малыш Сен-Лоран приехал вчера. К моему изумлению, из пятидесяти набросков, которые он мне принес, как минимум двадцать могли бы быть сделаны рукой Диора. В своей жизни я не встречал никого одареннее. Я только что договорился об их встрече, объяснив Диору, что речь идет не об утечках, поскольку наш малыш приехал накануне, а коллекция Кристиана вышла два дня назад… Я сейчас поведу его за руку к нему… Жаль, что вас здесь нет! Если малыш однажды станет великим, вспомните обо мне…» Судьба юноши разыгрывалась прямо у него на глазах.
20 июня 1955 года молодой человек, тонкий как карандашная линия, отправился на встречу по адресу: авеню Монтень, 30. «Дорогой господин Брюнофф, Ив только что реализовал свою мечту. Он побывал у Кристиана Диора позавчера, и я хотел бы поблагодарить вас от всего сердца. Вы ему подарили одну из самых больших радостей в жизни, а нам – счастье знать, что наш сын будет заниматься делом, которое любит». Так написал Шарль Матьё-Сен-Лоран Мишелю де Брюнофф 22 июня 1955 года. «Вам известна его робость, которая связана не только с его юным возрастом, но еще и с характером. Он сам в одном из писем жалуется на эту робость, которая, как ему кажется, немного парализовала его в первый день работы. Я бы попросил вас, когда представится случай, извиниться за него перед Кристианом Диором».
Ив начал работать «ассистентом модельера», как и другие молодые люди: Гай Дувье[114], Марк Боан[115], мечтавшие быть декораторами, дизайнерами или кутюрье. Они сидели месяцами в святая святых – в студии. Ив бесшумно проскальзывал за маленькое бюро. Студия – это отдельный мир. Любой посторонний человек звонил в звонок. Здесь работали в белых блузах. Господин Диор не был похож на успешного кутюрье, называл свои модели «Любовь», «Счастье», «Нежность». Скорее он был похож на отца семейства – гурман, довольно полный господин, всегда одетый в костюмы серого цвета. У него были свои талисманы, например его тросточка из ротанга с золотым набалдашником, которую он называл «волшебной палочкой».
Именно здесь, в этой студии, от наброска к ткани, от ткани к примерке создавались коллекции из двухсот моделей, разносившие по миру магическое имя Dior. Жемчужина короны господина Буссака[116], самого богатого человека Франции. Дом моды «Кристиан Диор» – это достопримечательность, перед которой фотографируются туристы. Открывшийся 12 февраля 1947 года первым дефиле коллекции new look, вернувшей Парижу статус столицы элегантности, этот Дом включал в себя двадцать семь ателье и имел более тысячи человек персонала, а начиналось все с шестидесяти человек. В 1954-м Дом моды Dior осуществлял 49 % экспорта в Америку товаров из области haute couture: духи, чулки, меха и обувь, подписанная дизайнером Роже Вивье[117]. Почему Роже Вивье? Потому что с 1953 года кутюрье открыл вместе с ним отдел обуви: это был единственный создатель одежды, с которым тот согласился объединиться под одной крышей. После двух лет успешного сотрудничества они создали в 1955 году отдел prêt-à-porter и обеспечивали самый большой сбыт во Франции, когда-либо предложенный продавцу обуви. Договоры на лицензии множились. Изначально небольшой особняк компании разросся на восемь этажей в здании на углу улиц Монтень и Франциска I. Здесь принимали до двадцати пяти тысяч клиентов за один модный сезон.
Дом моды был похож на театр. «Невидимые контрамарки» позволяли некоторым клиентам присаживаться на позолоченные кресла в гостиной бледно-серого цвета. Разница была только в одном – в надписи на маленькой латунной табличке над черным входом. В театре это «служебный вход», в Доме моды – это «вход для поставщиков». Сюда утром без двух минут девять приходили опрятные рабочие в кокетливых белых перчатках. Они были одеты в жакеты со стоячим воротником. Портье Фердинанд иногда пропускал молодых продавщиц через главный вход, но они всегда боялись попасться на глаза Сюзанне Люлен, руководительнице швейного отдела. Направо находился вход в бутик обуви Роже Вивье. Здесь стояли модели туфель на каблуках: «Запятая», «Канкан» или «Гиньоль», например. Волшебник Вивье не переставал затачивать кончик каблука в форме мандолины или птичьего клюва, следуя за стройной линией ноги, модной в пятидесятые годы. Он обувал богатых женщин и звезд, от Лиз Тейлор до Марлен Дитрих, которая жила в соседнем доме и вдохновила Вивье на создание туфелек на шпильках с шариком из стразов.
К Диору приходили люди со всего земного шара: герцогиня Виндзорская[118], Ава Гарднер[119], Лана Тёрнер[120], леди Феллоуз, графиня Вольпи, а также Лиз Тейлор, хотя, как утверждала одна продавщица, «господин Диор никогда не выходил к ней, он любил только священных чудовищ». Лучший пример тому – Глория Гиннесс[121], женщина потрясающей внешности, для нее он однажды нарисовал модель черного платья. «О да, господин Диор, – сказала она ему, – вы были абсолютно правы. Мне нужно было именно такое белое платье…» Женщина знала, что€ ей идет, и «не сомневалась в этом», для кутюрье это было удивительным. Он находил в этом повод для вдохновения и боялся быть убаюканным толпой поклонников. Каждый день, ровно в три часа дня сорок пять продавщиц, одетых в черное, выстраивались на парадной лестнице. Их называли «воронами». Коллекцию представляли двенадцать манекенов. Некоторые клиентки, как леди Мариотт, например, приходили сюда каждый день. Записанная в книге встреч и посещений, она появлялась в два часа, а уходила в семь. Это загадка мира моды: в «Ритце», где она ужинала одна, в «Лидо», в Венеции казалось, что леди Мариотт носила все время один и тот же костюм. Она была из тех женщин, которых замечают, но не обращают внимания. Чаще всего американок распознавали по перчаткам и по их здравому смыслу. Они заходили в бутик Роже Вивье, чтобы купить парочку туфель… а скорее десять. Некоторые заказывали ансамбли в трех экземплярах, как миссис Бидль, например: один – для Парижа, второй – для загорода, третий – для Нью-Йорка. Другие приходили удрученные: «Мой муж разорен. В этом сезоне я возьму всего десять моделей!» Третьи, как Патрисия Лопес Вилшоу, одевались днем в «простую одежду», а вечером на них сверкали одни драгоценности.
В эти времена женщины еще выбирали платья, которые должны были подходить к их украшениям. Продавщицы Диора знали по именам горничных, а консьержи в отелях были самыми ценными информаторами. Странные маленькие конвертики сновали туда-сюда. Отношения между клиентками и их поставщиками модной одежды были тонко показаны в фильме Макса Офюльса «Мадам де…».
Дом моды – это школа. Кто попадал сюда в первый раз, еще ничего не значил, если у него не было своей роли, если никто еще не назвал его «малыш». У каждого было свое место, и его функции были ограничены жесткими законами иерархии и деловых отношений. Титулы «месье» и «мадам» с упоминанием имени сразу указывали на буржуазных клиентов, бóльшая часть которых приезжала из Гранвиля, родного города Диора. У них были деньги, для них идеальный человек всегда был одет в шелка (они верили во все, что сделано «хорошим портным»). У них существовали свои строгие правила: не носить сапоги зимой, всегда носить чулки, даже летом.
Продавщицы поступали на работу к Диору по протекции, после испытательного срока, который мог длиться год… Что касалось патрона, женщины играли тут главную роль. Раймонда Зенакер[122] первая, кого взял на работу Диор в 1947 году, соратник и советчица, в городе и за кулисами она всегда была рядом с ним. Он называл ее «мое дополнение», «разумность среди фантазии», «порядок среди воображения», «строгость среди свободы»[123]. Еще Маргерит Карре, руководительница швейных ателье. Восемнадцать лет работы у модельера Пату[124] развили у этой женщины со свежим румяным лицом абсолютный авторитет профессионала своего дела, именно в шитье, чем так славился Дом моды Диора. «У нее даже булавки разговаривают», – вспоминали швеи, многие из которых последовали за ней, когда та ушла от Пату. У Диора работали те, у кого были руки портного. «Надо, чтобы платье держалось крепко». Платья могли держаться сами по себе, настолько хорошо они были сконструированы, подбиты подкладкой, уравновешены, подколоты. Деревянные столы в ателье все были испещрены следами от иголок.
Была еще одна муза – Митца Брикар[125]. Ее четырнадцать рядов жемчуга на шее давали понять, что она дорогая женщина. «Мой цветочник – это Картье», – обычно говорила она молодым торопливым ухажерам. Обычно Брикар приходила ближе к полудню, в загадочной муслиновой накидке, всегда завязанной на запястьях, ее корсет светился бриллиантами и рубинами из-под белой блузки. Некоторые говорили, что один любовник стрелял в нее из револьвера, другие – что она пробовала покончить жизнь самоубийством. Истории и легенды следовали за ней по пятам, как и ее парфюм. Митца была любовницей сына германского императора Вильгельма II, когда-то была замужем за русским князем, прежде чем вышла на сцену обнаженной в одном лондонском театре. После она вышла замуж за «незначительного господина» по фамилии Брикар. К тому же она обладала одной из лучших в Париже шкатулок с драгоценностями. Брикар умела носить меха как никто. «Ее мнение, – говорил Диор, – это мнение отеля “Ритц”»[126]. Она высказывалась о каждой модели: опыт общения с Баленсиагой заострил ее врожденное чувство элегантности. «Здесь одна лишняя пуговица!» – не боялась сказать она патрону.
«Так! Тишина! Мадемуазели, за работу!» В Доме моды, как и в театре, все делалось при строгом соблюдении правил. Но больше всего здесь учили молчать. Молчание скрывало за своей золотой маской миллионы ссор. Есть ли у клиентки горб, не прячется ли юбка из конского волоса под дорогим платьем Trafalgar, какое состояние у заказчицы и его происхождение, какая фамилия мужчины, кто оплачивает ее счета, длина линии плеч или же тоска от груза славы. Мир haute couture – это тысячи секретов, которые шепчут на фоне мелких драм, завершающихся слезами, а чаще новым платьем. Страдая от сантиметровых проблем, платье можно приспустить и еще раз приспустить.