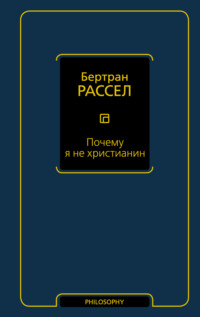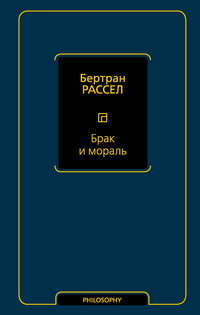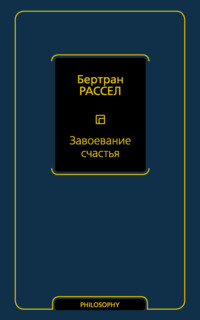Полная версия
Сатана в предместье. Кошмары знаменитостей (сборник)
– Знаете, кто та леди, что так заметно повлияла на нашего святошу-соседа?
Я ответил, что не знаю.
– Я только что выяснил, что это Иоланда Молинэ, вдова капитана Молинэ, чья трагическая кончина в джунглях Бирмы в последнюю войну стала одной из бесчисленных драм тех времен. Однако красавица Иоланда без особого труда пережила свое горе. Как вы, конечно, помните, капитан Молинэ был единственным сыном знаменитого мыльного короля и как наследник своего отца уже располагал крупным состоянием, которое, без сомнения, позволило справиться со всеми расходами по его погребению. Состояние это перешло к его вдове, отличающейся неутолимым любопытством по части мужчин и их сортов. Знавала она миллионеров и шарлатанов, горцев из Черногории и индийских факиров. Вкусы у нее католические, но предпочтения самые причудливые. Скитаясь по всей планете, она еще не успела познакомиться с ханжеством англиканской «низкой церкви» и, встретив оное в лице мистера Бошама, узрела в нем захватывающий предмет для изучения. Я содрогаюсь при мысли о том, что она сделает с беднягой Бошамом, ибо он донельзя искренен, а она всего лишь добавляет новый экспонат к своей обширной коллекции.
Я почувствовал, что Бошаму грозит беда, но не сумел предвидеть всей тяжести уготованного ему бедствия, так как еще не знал о деятельности доктора Маллако. Только услышав историю Аберкромби, я понял, что может натворить с этим материалом доктор Маллако. Сам Бошам был недосягаем, поэтому мне пришлось познакомиться с красавицей Иоландой, обитавшей в милом старинном доме на Хэм-Коммон. К своему разочарованию, я выяснил, что она понятия не имеет о докторе Маллако, поскольку Бошам ни разу о нем не упоминал. О Бошаме она отзывалась с веселой и несколько пренебрежительной снисходительностью, сожалея об его усилиях приспособиться в меру своего понимания к ее вкусам.
«Мне нравятся его проповеди, – заявила она, – а раньше нравились полосатые штаны. Нравится его упорный отказ от употребления горячительных напитков и то, как сурово он отвергает некоторые даже самые невинные словечки. Этим он мне и интересен, и чем больше он старается походить на нормального человека, тем труднее мне оставаться с ним на дружеской ноге, а без этого страсть доведет его до отчаяния. Но втолковывать этому бедняге то, что превосходит его психологическое понимание, совершенно бесполезно».
Я, в свою очередь, счел бесполезным призывать миссис Молинэ пожалеть беднягу.
«Вздор! – сказала бы она. – Небольшое проявление чувств и забвение ханжества пойдут ему только на пользу. Он бы стал лучше, чем раньше, справляться с грешниками, занимающими все его внимание, вот и все. Я считаю себя благодетельницей, почти его сотрудницей. Вот увидите, еще до того, как я с ним закончу, его способность спасать грешников вырастет во сто крат. Его собственная совесть в ее малейших проявлениях преобразится в пламенную риторику, и надежда самому избежать вечного проклятия позволит ему манить перспективой спасения даже тех, кого он прежде считал совершенно разложившимися и безнадежными. Но довольно о Бошаме, – продолжила бы она со смешком. – Уверена, после этого сухого разговора вы пожелаете смыть вкус Бошама одним из моих специфических коктейлей».
Я видел полную бесполезность этих бесед с миссис Молинэ, а тем временем доктор Маллако оставался совершенно недосягаемым. Сам Бошам при моих попытках с ним увидеться всякий раз торопился в Хэм-Коммон или оказывался слишком занят на службе. Занятия эти, впрочем, как было замечено, интересовали его все меньше; даже в вечернем поезде, которым он обычно возвращался домой, его уже не оказывалось на привычном месте! Я все еще надеялся на лучшее, но опасался худшего.
Мои страхи оказались небеспочвенными. Однажды вечером, проходя мимо его дома, я увидел у дверей толпу; престарелая экономка, вся в слезах, тщетно призывала всех разойтись. Хорошо зная эту славную особу по своим частым визитам к Бошаму, я осведомился у нее, в чем дело.
– Мой бедный господин! О, мой бедный господин! – запричитала она.
– Что случилось с вашим бедным господином? – спросил я.
– О, сэр, мне никогда не забыть страшной картины, представшей передо мной, когда я открыла дверь его кабинета. Кабинет, как вам, наверное, известно, в прежние времена использовался как кладовая, на потолке даже остались крюки, на которые в более изобильные времена вешали окорока и бараньи ноги. Открываю дверь и вижу: на одном из крюков висит на веревке сам мистер Бошам! Прямо под ним лежит на боку табуретка. Вынуждена предположить, что к этому отчаянному поступку бедного господина подтолкнуло какое-то горе. Не знаю, что это могло быть, но подозреваю козни одной порочной женщины, сбившей его с праведного пути!
Узнать от нее что-то еще не удалось, но я не исключал, что ее подозрения обоснованны и что некоторый свет на эту трагедию способна пролить вероломная Иоланда. Я тотчас отправился к ней и застал ее за чтением доставленного посыльным письма.
– Миссис Молинэ, – начал я, – до сих пор наши отношения оставались сугубо светскими, но теперь настало время для серьезного разговора. Мистер Бошам был моим другом, для вас он надеялся стать даже более чем другом. Возможно, это добавит ясности ужасному событию, происшедшему в его доме.
– Возможно, – согласилась она более серьезным, чем обычно, тоном. – Я как раз прочла последние слова этого несчастного, глубину чьих чувств, выходит, сильно недооценила. Не отрицаю, я достойна осуждения, но главная вина лежит не на мне. Роль основного виновника сыграл гораздо более зловещий и куда более серьезный персонаж, чем я. Я имею в виду доктора Маллако. Его роль разоблачается в письме, за чтением которого вы меня застали. Вы были другом мистера Бошама и, как мне известно, являетесь заклятым врагом Маллако, поэтому, полагаю, вам тоже следует ознакомиться с этим письмом. – С этими словами она вручила его мне, и я откланялся.
Я заставил себя прочесть письмо только у себя дома, но и тогда разворачивал его многочисленные страницы сильно дрожащими пальцами. Злая аура странного доктора, казалось, обволокла меня, когда я разложил их у себя на коленях. Я чуть было не ослеп, представив себе его глаза; прочесть ужасные слова, хоть это и был мой долг, было почти невозможно. Все же я собрался с силами и заставил себя погрузиться в пучину мучений, доведших бедного Бошама до непоправимого поступка. Вот его письмо:
Моя дорогая Иоланда!
Не знаю, опечалит вас это письмо или принесет вам облегчение. В любом случае я чувствую, что последние мои слова на этом свете должны быть адресованы вам, ведь это действительно мои предсмертные слова. Дописав это письмо, я расстанусь с жизнью.
Моя жизнь, как вы знаете, была монотонной и тусклой, пока в нее не вошли вы. Познакомившись с вами, я осознал, что в человеческом существовании есть иные ценности, а не только запреты, затхлые «нельзя», которым была посвящена вся моя деятельность. Все закончилось несчастьем, но я даже сейчас ничуть не жалею о тех сладостных мгновениях, когда вы, как мне казалось, улыбались мне. Но сейчас я пишу не о чувствах.
До сих пор, преодолевая ваше естественное любопытство, я скрывал, что произошло, когда вскоре после нашего знакомства я нанес роковой визит доктору Маллако. У меня тогда возникло желание поразить ваше воображение, а на себя прежнего я стал смотреть как на унылого олуха-святошу. Я думал, что, добившись вашего уважения, смогу зажить по-новому. Но способ сделать это открылся мне только после злосчастного визита к этому отвратительному воплощению сатаны.
Приняв меня с участливой улыбкой и пригласив к себе в кабинет, он сказал:
«Мистер Бошам, видеть вас здесь – большое удовольствие. Я наслышан о вашей благотворительности и восхищен вашей приверженностью благородным целям. Признаться, мне затруднительно представить, чем я могу быть вам полезен, но если это возможно – прикажите! Однако прежде чем мы перейдем к делу, полезно будет освежиться. Знаю, вы не употребляете напитков на основе виноградного сока и очищенной выжимки из зерна, и не стану вам их навязывать. Как насчет сладкого какао?»
Я поблагодарил его не только за учтивость, но и за знание моих предпочтений. Служанка подала какао, и начался серьезный разговор. Присущий ему магнетизм неожиданно для меня развязал мне язык. Я поведал ему о вас, о своих страхах, о переменах в своих взглядах и устремлениях, о пьянящих мгновениях доброты, позволивших мне пережить бесконечные дни, когда вы были холодны, о том, что хорошо сознаю: чтобы вас завоевать, я должен предложить куда больше в мирском смысле, но не только, ведь вам нужна более разносторонняя натура, занимательная беседа. Если он сможет помочь мне всего этого добиться, сказал я, то я стану его вечным должником, и пустячные десять гиней – плата за прием – окажутся наилучшим капиталовложением, когда-либо сделанным простым смертным.
Немного поразмыслив, доктор Маллако промолвил задумчивым тоном:
«Не знаю, поможет ли вам то, что я собираюсь сказать… Была не была, вот вам небольшая история, имеющая некоторое сходство с вашей.
Есть у меня знакомый, весьма известный человек – возможно, вы с ним встречались на профессиональном поприще; его ранние годы прошли примерно так же, как ваши. Подобно вам, он влюбился в пленительную женщину. Он рано понял, что вряд ли ее завоюет, если не станет гораздо богаче, чем смог стать, живя своей прежней жизнью. Как и вы, он распространял Библии на многих языках, во многих странах. Однажды он познакомился в поезде с одним издателем, имевшим несколько сомнительную репутацию. В былые времена он бы с таким даже не заговорил, но теперь, под освобождающим дух влиянием любовных надежд, стал снисходительнее к людям, отшатнувшимся от лона Церкви, которыми прежде пренебрегал.
Издатель рассказал о широчайшей всемирной сети распространения сомнительной литературы, переправляющей таковую в руки дегенератов, которых влечет похоть, погибель и тлен. «Трудности, – посетовал издатель, – возникают только с рекламой. Тайное распространение не вызывает проблем, но тайная реклама – это абсурдно само по себе! – Тут издатель подмигнул и продолжил с шаловливой улыбкой: – Но если бы нам помог такой человек, как вы, то заминка с рекламой была бы преодолена. В Библиях, которые вы распространяете, могли бы быть подсказки. Например, на странице, где сказано, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иеремия xvii. 9), могла бы быть сноска, что за более подробной информацией об испорченности человеческого сердца надлежит обращаться туда-то и туда-то. А когда Иуда велит своим слугам искать блудницу за городскими воротами, вы объясните в сноске, что большинству читателей Священного Писания это слово, без сомнения, неведомо, но там-то и там-то им будут даны все разъяснения. Когда же Слово Божие клеймит достойное сожаления поведение Онана, весьма кстати окажется соответствующая сноска». Издатель, правда, опасался, что мой знакомый за такое не возьмется, хотя, как он объяснил задумчиво, с легким сожалением, это принесло бы колоссальную прибыль.
Мой знакомый, – продолжил доктор Маллако, – не стал медлить с решением. Прибыв на лондонский вокзал, они с издателем проследовали в клуб последнего, где после нескольких рюмок согласовали основные пункты договора. Мой знакомый продолжил распространять Библии, те стали пользоваться небывалым спросом, доходы издателя выросли, а мой знакомый, разбогатев, приобрел хороший дом и модный автомобиль. Постепенно он перестал цитировать Библию, не считая мест, которые снабжал сносками. Он стал бойким говоруном, забавным циником. Женщина, которая прежде всего лишь им играла, была впечатлена. Они поженились и с тех пор живут счастливо. Судите сами, интересна ли вам эта история. Боюсь, это единственное, что я могу сделать ради решения ваших затруднений.
Порочность предложения доктора Маллако привела меня в ужас. Мыслимое ли дело, чтобы я, всю жизнь строго следовавший несгибаемым моральным принципам, взялся получать долю от столь дружно порицаемого, даже проклинаемого занятия, как торговля непристойной литературой? Так я и сказал, не таясь, доктору Маллако. Тот ответил многозначительной загадочной улыбкой.
«Друг мой, – снова заговорил он, – разве с тех пор, как вам посчастливилось познакомиться с миссис Молинэ, вы не стали спотыкаться об узость того кодекса поведения, коему всегда следовали? Уверен, вы читали «Песнь песней» Соломона и поражались, как она могла быть включена в Слово Божие. Оставьте эти нечестивые сомнения. Раз кое-какая литература, сбываемая издателем – партнером моего знакомого, имеет много общего с сочинениями столь мудрого и женолюбивого царя, то это повод воздержаться от ее осуждения. Немного свободы, дневного света, свежего воздуха даже в темах, о которых вы отказывались думать (боюсь, тщетно), будет только полезна, поэтому ей стоило бы дать ход, хоть бы и при помощи Священного Писания».
«Но нет ли опасности, и серьезной, – вскричал я, – что подобная литература ввергнет молодых людей, да и молодых женщин, в смертный грех? Смогу ли я смотреть в лицо ближнему, мучимый мыслью, что в этот момент какая-нибудь неженатая пара занята нечестивым делом по причине моих занятий, приносящих мне прибыль?»
«Увы, – был ответ доктора Маллако, – боюсь, многое в нашей святой вере вы поняли неверно. Размышляли ли вы над притчей о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в раскаянии, которые радуют Небеса менее, нежели единственный грешник, вернувшийся в лоно праведности? А притча о фарисее и мытаре? Неужто вы не позволили себе извлечь моральный урок из случая с кающимся вором? Неужто не задавались вопросом, чем заслужили осуждение Господа фарисеи, утолявшие голод? Не удивлялись восхвалением разбитого и сокрушающегося сердца? Можете ли вы, не греша против правды, утверждать, что до встречи с миссис Молинэ ваше сердце было разбито или сокрушено? А не приходило ли вам в голову, что нельзя покаяться, сперва не согрешив? А ведь этому напрямую учат Евангелия. Если вы желаете повлиять на внутреннее состояние людей так, как угодно Богу, то дайте им сперва согрешить! Нет сомнения, что многие из тех, кто покупает литературу издателя – партнера моего знакомого, впоследствии раскаются и, если верить учению нашей святой веры, станут тогда любезнее нашему Создателю, чем несгибаемые праведники, заметным примером коих служили до сих пор вы сами».
Эта логика меня смутила и до крайности запутала. Колебания еще меня не оставили.
«А разве не существует, – упирался я, – страшного риска неминуемого разоблачения? Разве полиция не раскроет рано или поздно преступную сеть, помогающую извлекать столь крупные доходы? И не грозит ли тюрьма людям, втянутым в эту незаконную деятельность?»
«Как я погляжу, – отвечал на это доктор Маллако, – вам и вашим подручным все еще неведомы кое-какие изгибы и ответвления нашей общественной системы. Вы воображаете, что, когда речь заходит о таких крупных суммах, никто из наделенных властью не согласится за свою долю сотрудничать или, по крайней мере, закрывать глаза? Уверяю вас, такие люди есть, именно благодаря сотрудничеству с ними издатель – партнер моего знакомого спит спокойно. Если вы решите последовать его примеру, то вам придется заручиться слепотой официальных лиц».
Я уже не знал, что сказать, и покинул дом доктора Маллако, полный сомнений, и не только о том, как мне поступить, но и обо всем фундаменте нравственности и о цели праведной жизни.
Сначала сомнения полностью лишили меня сил. Я не являлся на работу, потому что не переставал ломать голову, как мне быть, как жить. Но постепенно доводы доктора Маллако все больше овладевали моим воображением. «Я не могу избавиться от посеянных в моей душе этических сомнений, – думал я. – Я больше не знаю, что дурно, а что нет. Зато я знаю (так думал я в своей слепоте) дорогу к сердцу моей возлюбленной Иоланды!»
В конце концов решение за меня принял случай, по крайней мере, я приписал решение случаю, хотя теперь сомневаюсь в этом. Я повстречал человека исключительной житейской мудрости, чья сомнительная деятельность заставляла его скитаться по всему свету, не брезгуя самыми злачными местами. Он утверждал, что вхож и к полицейским, и в преступное подполье. Он знал, кто в полиции продажен, а кто нет, – так говорил, во всяком случае, он сам. Оказалось, что он зарабатывает на жизнь посредничеством между людьми, замышляющими преступление, и сговорчивыми полицейскими.
«Но вам-то такие вещи, конечно, неинтересны, – оговорился он. – Ваша жизнь – открытая книга, и у вас никогда не бывало даже подобия соблазна нарушить закон».
«Что верно, то верно, – ответил ему я, – но в то же время я думаю, что мой долг – максимально расширить свой опыт, и если вы и впрямь знакомы хотя бы с одним таким полицейским, то я буду рад, если вы меня ему представите».
Он выполнил мою просьбу и познакомил меня с инспектором уголовного розыска Дженкинсом, который, как мне дали понять, не был человеком несгибаемой праведности, какими мы привыкли считать наших благородных сотрудников полиции. Моя дружба с инспектором Дженкинсом мало-помалу крепчала, и я мелкими шажками подобрался к теме непристойных изданий, по-прежнему прикрываясь любопытством к всевозможным проявлениям жизни.
«Я сведу вас со своим знакомым издателем, – пообещал он. – Нам с ним доводилось проворачивать выгодные делишки».
И он представил меня некоему Маттону, издателю, если верить его словам, как раз такого пошиба. Раньше я не слыхал про его компанию, но удивляться этому не приходилось, так как я соприкоснулся с совершенно неведомым мне прежде миром. После предварительного расшаркивания и приветствий я сказал Маттону, что мог бы оказаться ему полезен в том смысле, в каком был полезен своему издателю друг доктора Маллако. Маттон не отверг эту идею, но сказал, что безопасности ради хотел бы получить от меня что-то вроде письменного предложения. Я неохотно согласился.
Все это случилось только вчера, когда радужные надежды еще влекли меня к неминуемому краху. А сегодня… Но как исторгнуть из себя страшную правду, правду, разоблачающую не только мою порочность, но и невероятную глупость? Сегодня меня посетил полицейский констебль. Он предъявил документ, подписанный мной по требованию Маттона.
«Ваша подпись?» – спросил он.
Как ни сильно я был поражен, мне хватило присутствия духа, чтобы ответить:
«Вам еще предстоит это доказать».
«Вряд ли это вызовет трудности, а вам бы неплохо отдавать себе отчет, в каком положении вы тогда окажетесь, – предупредил он. – Инспектор Дженкинс вовсе не ступил на путь бесчестья, вас ввели в заблуждение: напротив, он привержен защите нашей нации от любой нечистоты, а репутация продажности, которую он себе создал, предназначена только для завлечения преступников в его сети. Мистер Маттон – подставное лицо. Эту гнусную личину надевает то один, то другой детектив. Увидите, мистер Бошам, вам не выйти сухим из воды». – После этих слов он удалился.
Я сразу понял безнадежность своего положения и невозможность дальнейшей жизни. Даже если бы мне повезло избежать тюрьмы, подписанный мной документ поставил бы крест на деле, служившем мне источником существования. Опозоренный, я бы не смог смотреть вам в глаза, а без вас моя жизнь лишена смысла. Мне ничего не остается, кроме ухода из жизни. Меня ждет встреча с Создателем, Чей справедливый гнев обречет меня, без сомнения, на те самые муки, которые я так часто и так живо описывал другим. Но прежде чем я закончу свое бренное существование, Он, надеюсь, снизойдет и дозволит мне прокричать главное: «Из всех когда-либо живших дурных людей нет никого хуже, никого коварнее, чем доктор Маллако, которого я молю Тебя, Боже, низвергнуть в те же бездны ада, что уготованы мне!»
Таким будет мое обращение к Создателю. Вам же, моя ненаглядная, я шлю из пропасти, в которую провалился, пожелания счастья и радостей.
IV
Спустя некоторое время после трагического конца Бошама я узнал об участи Картрайта. К счастью, она оказалась не столь ужасной, но нельзя отрицать, что большинство из нас себе такого не пожелало бы. Частично он рассказал мне об этом сам, остальное я узнал от своего единственного друга, вхожего в церковные круги.
Картрайт, как всем известно, был знаменитым мастером художественной фотографии, делавшим фотопортреты известнейших кинозвезд и политиков. Он обладал неповторимой способностью поймать характерное для модели выражение лица, вызывавшее к ней неодолимую симпатию. Ассистировала ему женщина редкой красоты по имени Лэлэдж Скрэггс. Правда, для клиентов мастера ее красота бывала отравлена излишком вялости. Впрочем, хорошо знавшие ее люди говорили, что сам Картрайт от этой ее вялости избавлен и что их связывает пылкая страсть, пусть и не скрепленная, увы, законными узами. При этом в жизни Картрайта присутствовала одна неизбывная печаль: хотя он с завидным усердием художника трудился утром, днем и вечером, а его клиентура становилась все более изысканной, алчность налогового ведомства не позволяла ему удовлетворять некоторые дорогостоящие потребности – как свои собственные, так и красавицы Лэлэдж.
«Что проку во всей этой каторге, – часто сокрушался он, – когда не менее девяти десятых моих заработков забирает правительство на покупку молибдена, вольфрама или какого-то еще вещества, не представляющего для меня ни малейшего интереса?»
Это недовольство отравляло ему жизнь и наталкивало на мысли о бегстве в княжество Монако. Увидев медную табличку доктора Маллако, он воскликнул: «Неужто этот достойный человек раскопал нечто, превосходящее ужасом избыточное налогообложение? Если так, то он, должно быть, обладает богатым воображением. Побываю-ка я у него на консультации, пусть расширит мне сознание!»
Записавшись на прием, он явился к доктору Маллако в те дневные часы, когда у него не намечалось фотосессий с кинозвездами, министрами или иностранными дипломатами. Даже аргентинский посол, суливший оплату отборной говядиной, выбрал другую дату.
После традиционных вступительных любезностей доктор Маллако перешел к делу и осведомился, какого сорта ужас привлекает Картрайта.
– Будьте уверены, – обнадежил он его со спокойной улыбкой, – ужасы у меня на любой вкус.
– Собственно, ужас, который мне требуется, связан со способами заработка, ускользающими от внимания сборщика налогов. Не знаю, способны ли вы насытить эту тему ужасом, как обещано на вашей табличке. Если да, то вы заслужите мою благодарность.
– Думаю, – ответил доктор Маллако, – у меня найдется то, что вам нужно. Затронута моя профессиональная гордость, и мне было бы стыдно вас подвести. Расскажу вам одну историю, которая, быть может, поможет вам принять решение.
Мой друг-парижанин – как и вы, гениальный фотограф. Ему, как и вам, помогает пленительная ассистентка, приверженная прославленным парижским удовольствиям. Как и вы, он изнемогал от налогов, пока честь по чести занимался своим профессиональным делом. Он и теперь живет фотографией, но пользуется более современными методами. Он взял за правило наводить справки, в какие парижские отели хлынет тот или иной поток знаменитых визитеров великого города. После этого его прекрасная ассистентка усаживается в вестибюле отеля перед заездом туда очередного героя всеобщих грез. Пока он занят у стойки администратора, она вдруг начинает задыхаться, шатается, как будто вот-вот лишится чувств. Галантный герой грез, единственный мужчина поблизости, бросается, разумеется, ей на помощь. В момент, когда она оказывается в его объятиях, щелкает затвор камеры. На следующий день мой друг поджидает его с проявленной фотографией и вопросом, сколько попавшийся готов заплатить за негатив и уничтожение всех копий. Если жертва – видный богослов или американский политик, то не приходится сомневаться в его готовности расстаться с весьма крупной суммой. Таким способом мой друг серьезно улучшил свое материальное положение по сравнению с былыми временами с 40-часовой рабочей неделей. Его ассистентка занята всего раз в неделю, а сам он – два дня: сначала когда снимает, потом – когда посещает свою жертву. Остальные пять дней в неделю парочка наслаждается жизнью! Возможно, – заключил доктор Маллако, – в этой истории обнаружится нечто полезное, благодаря чему вы покончите со своими затруднениями.
В этом предложении Картрайта обеспокоили только два момента: опасность разоблачения и неприязнь к любительскому промискуитету, которым займется белокурая Лэлэдж. Страх навевал мысли о полиции, ревность – еще более могучее чувство – рождала образы знаменитостей, чьи объятия она, чего доброго, предпочтет его. Но пока он ломал голову, как быть, от службы налоговых взысканий и добавочного налогообложения пришло требование двенадцати тысяч фунтов стерлингов. Картрайт, совершенно чуждый какой-либо экономии, не располагал двенадцатью тысячами ни в каком виде, а потому, проведя несколько ночей без сна, решил, что ему ничего не остается, кроме как пойти по стопам дружка Маллако.