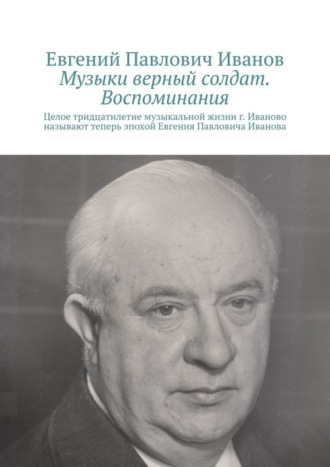
Полная версия
Музыки верный солдат. Воспоминания
На второе учение шли очень далеко: от Сокола к центру Москвы по ул. Горького, потом к Комсомольской площади, Сокольникам и далее в подмосковные леса и поля. Помню, что учения были очень трудные, а когда возвращались домой, то после Сокольников шли тяжело – измученные, проголодавшиеся. Никогда не забуду, как мы в строю посередине улицы Горького читали оставшиеся с мирного времени вывески продовольственных магазинов: «Мясо, колбаса, ветчина», «Торты, пирожное, печенье» и т. д. И это при пустом собственном желудке! И всё же – в те минуты хотелось не колбасы и не торта, а вдоволь чёрного хлеба. И ничего более…
В вечернее время в Москве почти ежедневно объявляли воздушную тревогу. Происходили налеты немецкой авиации. Интересно, что тревога объявлялась обычно в тот час, когда у нас начинался ужин. А в столовую нужно было пройти метров двести, и, главное, возвращаться при объявленной тревоге было нельзя. Немцы были пунктуальны. Что делать? У нас решили перенести время ужина на час раньше.
А после ужина, даже во время тревоги, многие из нас отправлялись подышать воздухом, пройтись по близлежащим улицам. Иногда, где-то вдалеке, слышны были стрельба зениток и разрывы сброшенных бомб. Но разве десантники чего-нибудь боятся? – так воспитывали нас. Да и много ещё оставалось от юношеской дерзкой бесшабашности… Однажды, прогуливаясь по улочкам посёлка Сокол, мы с Шамилем, медленно шагая и прислушиваясь к стрельбе зениток, вдруг увидели у водопроводной колонки около двухэтажного деревянного дома девушку, наполнявшую водой ведро. Шамиль, отличавшийся своей интеллигентностью и учтивостью, не раздумывая подошёл к девушке, неотразимо улыбнулся и предложил помочь ей. Он взял ведро, и мы пошли к крыльцу. Это было весьма оригинальное свидание. Поздний вечер, тихая узкая улочка (были в то время такие в Москве), на крыльце под навесом трое ведут какой-то светский, отвлеченный от войны, разговор, вокруг – никого, объявлена тревога и где-то – то вдалеке, то поближе стреляют зенитки. Девушка оказалась и умной, и привлекательной, и серьёзной, и общительной. Выяснилось, что она – эстонка, зовут её Эрна, она снимает здесь комнатку и учится в каком-то гуманитарном институте. Она оказалась страстной патриоткой. Спокойно, немногословно, но убеждённо она говорила, что считает своим долгом пойти на фронт. Стоя на крыльце, у ведра, мы проговорили довольно долго. Шли домой под впечатлением от этой неожиданной и интересной встречи.
Прощаясь, Эрна приглашала нас навещать её, сказала, что ей приятно вместе с нами «говорить и размышлять о жизни»…
То ли учения, то ли что-то другое не давало нам возможности навестить ее. Недели через три-четыре мы, наконец, пошли. Нам открыла дверь старушка – хозяйка квартиры и сказала, что несколько дней назад Эрна уехала. Хозяйка не знала – куда…
Как-то поздним вечером, а, может быть, – уже ночью, в расположении нашей бригады в корпусах общежитий МАИ была объявлена воздушная тревога. Встретили её без суеты, спокойно, никуда не выходили, но прислушивались – будут ли падать бомбы и далеко ли? Разрывы бомб были слышны, но особенно грозно и настойчиво стучали зенитки. Потом были разговоры, что целью того налета немцев были именно наши корпуса, о которых им было известно…
В Москве, на Большой Молчановке жили наши родственники – семья Евлампия Васильевича Рыбакова, сына брата моего дедушки. Его жена Лидия Михайловна и две дочери Аня и Мила находились уже в эвакуации. Евлаша жил тогда один. Он работал бухгалтером в каком-то торговом заведении. Как и все в то грозное время, жил он трудно и бедно. Мы были знакомы и раньше – как-то ещё до войны (я был ещё мальчиком – есть фотография) мы с мамой приезжали в Москву и находились несколько дней у Рыбаковых. И вот теперь, кажется, это было в феврале, я решил навестить родных, ведь это всегда, а в такой ситуации особенно – дорого. Итак, я застал только Евлашу. Он вскипятил чай и… «угостил» меня музыкой. Я и не подозревал, что он любит классическую музыку, имеет патефон и пластинки. Родной человек, его добрые глаза, лёгкая, приветливая улыбка – как всё это действительно дорого было в те грозные дни. Военному человеку, живущему постоянно в казармах, с чужими людьми, да ещё в «постоянной боевой готовности» такие встречи приносят какую-то особую радость, покой, уют… Мы слушали песню Ионтека из оперы Монюшко «Галька» – видимо, очень любимую моим дальним родственником, который в те минуты был очень близким мне человеком… 5
Ещё холодной весной, наверное, – в марте, мама снова приехала в Москву навестить меня. Какая радость! Два-три дня – но с мамой! В Москве голодно. Что-то мама привезла с собой, что-то приносил я из своей столовой в виде «сухого пайка». Ну вот нам захотелось картошки… Недалеко от Арбатской площади, собственно, – за углом после кинотеатра «Художественный», на улице – ныне пр. Калинина – в направлении к Кремлю, где-то под аркой старого дома мама угадала человека, продававшего мерзлую картошку. Мы решили купить у него несколько картофелин. И были очень рады. Мерзлая, плохонькая, но – картошка! И вскоре мы полакомились горячим, таким любимым и весьма «изысканным» в нашей ситуации блюдом.
На этот раз мама останавливалась на квартире Рыбаковых, но была в Москве, к моему глубокому сожалению, очень недолго.
…Шамиль! Его непосредственность, эмоциональность, а порой и какая-то особая ему присущая экстравагантность проявлялись порой весьма неожиданным и оригинальным образом. Однажды, например, мы шли с ним по улице Горького – от центрального телеграфа к зданию Моссовета. И где-то посередине этого отрезка улицы навстречу нам приближалась девушка, очень похожая на популярную в то время киноактрису, героиню фильма «Антон Иванович сердится», которая нарушила душевный покой моего друга. Мы оба обратили внимание на эту девушку. Когда она удалилась на несколько шагов, я шепнул Шамилю, конечно, в шутку: «Шамиль, это же Целиковская!» Он аж вздрогнул, и восторженный, радостный, не раздумывая, тут же повернулся назад и быстро зашагал, явно желая догнать «Целиковскую» и, конечно же, объясниться в своих пламенных чувствах.
Шамиль был немного близорук, и моя информация могла привести к довольно романтичной сцене… А вдруг – это действительно Целиковская? Кстати, это могло быть так! Я решил предотвратить непредвиденное развитие событий в самом центре Москвы. Дважды окликнул своего друга и настойчивыми жестом заставил его остановиться. А затем уговорил Шамиля не поддаваться эмоциям. Добиться этого мне удалось, увы, не без труда…
Когда наша группа из лагеря вошла в Горький (первая декада сентября 1941 года), мы увидели на одном из кинотеатров рекламный щит очень больших размеров. На нём – улыбающееся лицо Целиковской и что-то ещё… Такой радостью, таким задором веяло с этой рекламы! Но как это контрастировало со всем происходящим вокруг, да и в душе каждого человека… Непостижимо это! Но, видимо, и таким способом нужно было в то время поднимать у людей дух…
В апреле 1942 г. (мы ещё квартировали в общежитиях МАИ) в нашей бригаде неожиданно началась усиленная строевая подготовка всего личного состава. «Топали» много, не щадя ни сапог, ни себя. К чему бы это? Долгое время нас держали в неведении. Но к концу месяца мы поняли – нас готовят к участию в Первомайском военном параде на Красной площади! Это нас воодушевило: парашютисты-десантники – личная гвардия Верховного Главнокомандующего (так говорили наши начальники) – должны показать образец строевой подготовки и пройти на параде четким строем, с достоинством, с настроением!.. К этому и готовились. А 30-го вечером нам объявили: «Отбой. Парад отменён…» Какая досада! Как было жаль! Мы так настроились, таким желанием горели… Так хотелось пройтись по Красной площади! Что ж, были, видимо, веские причины отменить парад…
Приближалось тяжёлое испытание. Нас стали готовить к прыжкам с парашютом. Если бы об этом мне сказали год назад – в конце мая или в начале июня 1941 г.! Сначала показывали укладку парашюта. Не могу не сказать, что занятие это – волнующее: тут ошибиться можно только один раз в жизни…
«Репетировали» мы в ЦПКиО им. Горького. В последние годы, перед началом войны во многих городах, обычно в самых людных местах строили парашютные вышки в качестве наиболее современного аттракциона для смелых и отважных. В то время такая вышка была и у нас в Иванове, и стояла она около цирка, примерно там, где ныне стоит памятник М. В. Фрунзе. А в Московском парке им. Горького вышка находилось около самого входа в парк (но уже на его территории). Вышка была «столичная» – очень высокая, кажется более 25 метров. И вот там мы проводили тренировочные занятия, отрабатывали «самочувствие» после динамического удара при раскрытии парашюта и приземление. Обычные посетители этого аттракциона прыгали, имея раскрытый купол над головой и поэтому никакого удара не чувствовали. Для нас же, «военных профессионалов», условия прыжка изменили. Раскрытый купол опустили метров на 10 вниз и эффект получился значительный! Стоишь на вышке – как на крыше девятиэтажного дома, парашют привязан ремнями к тебе – беспокоиться, вроде бы, не о чем, но попробуй прыгни с такой высоты, когда купол внизу! Страшно! Да и динамический удар был весьма чувствительным… Словом, такой прыжок с морально-психологической точки зрения был сложнее, чем прыжок с самолёта, в особенности очень удобного для прыжков «Дугласа».
Около вышки собиралась толпа любопытных. И мы прыгали, превозмогая робость… Отрабатывали удары, приземления на очень твёрдый грунт. Словом, чтобы понять каково это, надо прыгнуть самому. И всё станет ясно!..
В то время я ещё не курил. Потому что не курил в школьные годы. А ведь нам постоянно выдавали табак в пачках, иногда папиросы. Но несмотря на все невзгоды, переживания, я не закурил, хотя вокруг курили, кажется, все. И порой было как-то приятно осознавать, что я сохраняю в себе что-то из далекого, мирного, юношеского прошлого – сохраняю «привычку не курить». Но я не знал ещё, что у этой милой привычки дни уже сочтены…
Что-то далекое детское шевельнулось во мне в то время и самым оригинальным образом. Наступило лето, появились ягоды – клубника! Но где купишь? Только на базаре. На Арбате. Около кинотеатра «Художественный» (сейчас там широкий проход к новой станции метро «Арбатская») был рынок. И вот однажды… Тут я должен заметить, что военным людям или людям в военной форме появляться на базарах было строжайше запрещено. Но в очередной раз я получил две пачки табака. И решил их поменять на ягоды. Так захотелось! Решил рискнуть. Зашёл на базар, без труда сторговался и получил большой пакет с желанными ягодами!.. Когда я видел столько таких красивых, ароматных вкусных ягод! Съел штуки две. И, о ужас! Подходит патруль и препровождает меня в комендатуру, которая находилась невдалеке от рынка. Обычное объяснение с комендантом. И решение: во дворе комендатуры заниматься… строевой подготовкой. Это было наказание. Через час отпустили – сжалились… Смешно, ведь. Жалко ягоды пропали. Очень жалко…
Очень скоро возникли переживания куда более серьезные. Нам сообщили, что пришло время для настоящих прыжков с самолета. С этого момента все мысли были так или иначе связаны с этим событием. Скажу честно: где-то в глубине души было очень неспокойно, страшновато, ведь каждый прыжок – это риск. Внешне этого почти никто не выказывал. Во-первых, – та самая отчаянная молодость, готовая, пожалуй, на всё! Во-вторых, – сознание неотвратимости этого испытания, и ещё – мы, ведь, сами выбрали себе эту военную профессию, готовились (больше мысленно), знали, что когда-нибудь нас посадят в самолёт.
В это время мы продолжали жить в домах общежития МАИ. В нашей комнате было трое: Шамиль, Лёша Высоковский и я. Лёша тоже был отличный парень, кажется, немного старше нас с Шамилем. Все мы занимали одну и ту же должность в разных батальонах. Лёша – высокий, крепко сложенный молодой человек, рыжий с веснушками, звонкоголосый, жизнерадостный, общительный. Любил хорошую музыку, особенно И. Штрауса, пел…
Уже не помню, как это произошло, но у нашей троицы (именно у всех троих) появилась знакомая – Аля Желанова, жившая где-то в Химках, не так уж далеко от нашего «дома». Она, кажется, училась на первом курсе какого-то института. Иногда приходила к нам вечером, и мы были этому очень рады. Образовывалась довольно интересная компания: трое студентов и я – бывший десятиклассник. В нашем общении было много увлекательных тем, хорошего юмора, а главное, – наше единение было очень искренним, доверчивым и дружественным. Всё это было так необходимо в то суровое время каждому из нас.
И вот, когда стало известно, что на следующий день мы выезжаем на прыжки, накануне вечером к нам пришла Аля. Этот вечер запомнился мне очень хорошо. Сидели долго, поддерживая обычный разговор на разные милые темы, шутили, намеренно подавляя отнюдь не веселые мысли и чувства. Мы понимали, что именно ради этого Аля и пришла тогда к нам… Стали прощаться. Аля каждому крепко пожала руку и с какой-то очень светлой и мягкой улыбкой желала нам удачи – сначала мне, потом Шамилю, а высоченному Лёшке, вытянувшемуся перед ней в солдатской стойке, сказала: «Ну, а тебе, Лёша, я очень желаю только одного: чтобы ты не ушел в землю с головой!» Мы прореагировали на это, как на шутку…
На прыжки мы выехали на аэродром близ Монино. На опушке леса разбили временный палаточный городок. Когда мы от станции направлялись к месту нашего расположения (от Монино шли пешком, и было это днём), мы отчётливо видели, как где-то впереди, с километр или немного больше, с самолёта прыгнули двое. В свободном падении, не открывая парашютов, они летели вниз. Что это – затяжной прыжок, когда парашют открывают на заданной высоте? Оба парашютиста скрылись за лесом, так и не открыв парашюты. Может быть, они открыли их уже совсем близко от земли? Может быть, это были тренировочные полеты опытных мастеров? Возможно. Но, всё-таки, холодок по спине пробежал…
Ждать пришлось недолго. И вот, как говорится, в один прекрасный день… День был, действительно прекрасный – солнечный, тихий, спокойный. Вспомнилась любимая с детства деревушка Красносельская. В такие дни мы отправлялись в лес – по грибы или ягоды, или просто на прогулку.
Детские годы. Евгений Павлович Иванов с отцом, Павлом Григорьевичем (слева), матерью, Олимпиадой Филипповной (справа), и дедушкой, Филиппом Алексеевичем Рыбаковым (крайний справа), на даче в Красносельском Ивановской области
А в этот день мы отправлялись на аэродром. Там нас распределили по группам. Мы – Шамиль, Лёша и я, – оказались в трёх разных группах. Надели парашюты и стали ждать своей очереди. Что-то будет? Откроется или не откроется? Правда, у каждого на груди запасной парашют, который, в случае необходимости, можно открыть самому (главный – с принудительным открытием). Но для этого требуется самообладание в очень сложной – в психологическом отношении – обстановке: ты уже понял, что основной не открылся, ты камнем летишь к земле, к своей, кажется, неминуемой погибели, в эти с е к у н д ы ты должен, крутясь и вертясь в воздухе, сообразить, что делать. Нужно найти кольцо запасного и рвануть его! Да, но ведь и он может не раскрыться… Вот такие мысли одолевают. Потом успокаиваешь себя – ну, ведь, прыгают же люди и – ничего, остаются живыми. Пытаемся шутить с ребятами, с которыми судьба свела в этот трудный, критический час. Но шутки не получаются. Всем не до них… Страшно, – что и говорить!..
Пришла наша очередь. Вошли в самолёт – «Дуглас». Сели на скамейки. Взлёт. Не заметили, как оторвались от земли, как набрали высоту. Но понимали, конечно, что мы уже далеко от земли, на которую мы можем вернуться только под куполом собственного парашюта… И думалось: зачем, почему меня занесло в эти десантные части?.. Романтика романтикой, а вот каково прыгнуть?! И приземлиться живым?!
Слышим команду: «Приготовиться!» Встали. Открылась дверь. В неё стали проваливаться один за другим мои товарищи по экипажу. Вот и моя очередь… Не помню, как, но прыгнул. Почувствовал сильный удар. В глазах то ли потемнело, то ли вообще летел с закрытыми глазами, а в момент удара вроде бы действительно посыпались искры из глаз… Наконец понял, что парашют открылся, надо мной купол, а я описываю в воздухе замысловатые круги. Вот она – радость! Вот оно – счастье! Жив!!! Теперь надо осмотреться. «Нашел» землю. Как интересно посмотреть на неё с высоты. Сначала было ощущение, что ты болтаешься на одном месте, не снижаешься. Но чем ближе к земле, тем ощущение становилось яснее: снижение как бы ускорялось. Теперь забота другая – где придётся приземлиться, не угодить бы на что-нибудь «неподходящее»… Пока еще был высоко над землёй, казалось, что приземлюсь на кустарнике, это меня успокоило – стал смотреть по сторонам. Но это был, увы, не кустарник, а участок невысокого смешанного леса. Когда я это понял, было уже поздно что-либо предпринимать. Я скользнул по веткам деревьев… Можно считать, что приземлился вполне удачно. Ощущение, что ты стоишь на земле, жив и невредим, – ни с чем сравнить нельзя! Собрал купол и стропы и пошёл в лагерь.
И лишь через некоторое время случайно обнаружил, что щеки и шея у меня в крови! «Скольжение» по веткам деревьев бесследно не прошло. Но это пустяки. Пошёл в лагерь, никого не видно. Я решил залечить травму самостоятельно. Сел на пенёк лицом к солнцу. Довольный, радостный – от того, что живой, что победил страх! Солнце стало припекать кровь на лице. Сижу… И вдруг идет мимо комиссар батальона. Увидел меня и крикнул: «Иванов, ты почему не на прыжках? – я повернул к нему голову, – …Ну, извини, не видел… Поздравляю с первым прыжком!»
Скоро пришел Шамиль. Он тоже прыгнул удачно. Обнялись. Поздравили друг друга. А потом нам рассказали, как приземлился Лёша. Он попал в какую-то болотину и провалился в неё достаточно глубоко. Мы тут же вспомнили напутствие Али. И расхохотались…
Сколько прыгали ещё – не помню, но хорошо помню, что для меня переломным прыжком, то есть таким, когда, говорят, каждый парашютист испытывает наибольший страх, был четвёртый прыжок. Говорили, что ребята меня сзади даже слегка подтолкнули, потому что у открытой двери я что-то долго собирался «на свежий воздух»…
Когда мы вернулись в Москву, нас вскоре навестила Аля. Она горячо поздравляла нас, теперь уже настоящих парашютистов, очень радовалась, что встретила нас живыми и невредимыми… Когда она пожала руку Лёше, тот не удержался и с улыбкой ей сказал: «Спасибо, Аля! Только когда мы снова поедем на прыжки, ты, пожалуйста, мне лично ничего не желай…» Эти слова озадачили Алю. Пришлось рассказать ей, как приземлился Алексей. И все дружно расхохотались…
После первых прыжков мы почувствовали себя другими людьми – победившими собственную робость, уверенными в себе. Да и в кругу друзей-офицеров мы обрели столь необходимое положение равных среди них в нашей нелегкой военной профессии. Словом, стали ходить гордо…
В конце лета нас, группу офицеров, в том числе меня и Шамиля, перевели на другое место службы – теперь наша часть размещалась за Ржевским (ныне Рижским) вокзалом, за мостом (где теперь, кажется, начинается проспект Мира) справа, – тогда там были помещения техникума, если не ошибаюсь, – автотранспортного. Мы с Шамилем очень жалели, что пришлось расстаться с некоторыми друзьями и, главное, – с Лёшей…
Служили исправно, но каких-то событийных эпизодов за это время запомнилось мало. Хотя были и очень значительные, волнующие и даже трагические.
Главное. Однажды во время моего ночного дежурства (это было глубокой осенью или в начале зимы) меня вызвал комиссар. Разговор он повел очень мягко и неторопливо, расспрашивая о доме, о моих родных. Я понял, что такой разговор сегодня ночью он повел неспроста. Скоро он сказал: «Пришло сообщение, что Ваш отец на фронте пропал без вести, возможно погиб». Это был страшный для меня удар. Комиссар говорил мне какие-то успокоительные слова, но я их не слышал. Мне было ужасно тяжело. Я уже не помню, как добрался до своей койки… Да и последующие дни были как в тумане – мысли об отце, тяжелая душевная боль заслонили всё остальное…
Отец Евгения Павловича – Павел Григорьевич Иванов-Пожарский, военный капельмейстер
Военный капельмейстер Павел Григорьевич Иванов-Пожарский (в середине первого ряда, без инструмента) и его военный оркестр, довоенное фото
Думал и о том, как трагично сложилась судьба отца: ведь из музыкантов его возраста в 1939 году мобилизовали едва ли не его одного… После войны мне было очень тяжело убеждаться в том, что многие его сверстники-коллеги прожили всю войну в Иванове, так и не надев шинелей…
И ещё – почему-то это страшное известие мне сообщили чуть ли не через год после случившегося. Щадили? Не знаю…
…Другой очень памятный для меня случай. Как-то в декабре 1942 г. я вышел из части и решил по каким-то своим личным делам поехать в центр Москвы (это нам разрешалось). Сел в трамвай на остановке перед Рижским мостом и встал у открытой двери (тогда были такие вагоны). Трамвай шел по этому мосту на хорошей скорости. Но вот я заметил, как по пешеходной дорожке моста в том же направлении, как и трамвай, неторопливой походкой шел военный. Что-то знакомое мне показалось в нём. Когда мы оказались совсем близко друг к другу, я узнал Сергея Григорьевича – родного брата моего отца. Прыгнуть из вагона было слишком рискованно – трамвай на середине моста, набрав скорость, шёл очень быстро. Но я помахал Сергею Григорьевичу рукой и старался показать ему, что на следующей остановке сойду. И вот на остановке у Рижского вокзала мы встретились и крепко обнялись. Это была большая радость. Сергей Григорьевич в это время находился в Москве, в резерве, уже побывав на разных фронтах…
Дядя Евгения Павловича Иванова Сергей Григорьевич Иванов-Пожарский – капитан, переводчик разведотдела штаба 2-го Белорусского фронта. В годы гражданской войны – командир 2-й роты 220-го полка 25-й, «чапаевской» дивизии
Мы вновь сели с ним в трамвай и доехали до площади Коммуны. Там находится армейская гостиница, в которой Сергей Григорьевич некоторое время проживал. Несмотря на холодную погоду, мы довольно долго гуляли по скверу (не против гостиницы, а по тому, вокруг которого в обе стороны шли трамваи). Многое вспомнили, о многом рассказали друг другу. Запомнился один фронтовой эпизод, о котором мне поведал Сергей Григорьевич. Однажды, во время боя, ему нужно было поехать в другую часть. На легковой военной машине («виллисе»), вдвоём с шофером, они отправились в путь. Наступил вечер. Было уже почти совсем темно, ехали быстро. Догнали какую-то колонну машин, шедшую в том же направлении. Встроились в эту колонну и продолжали движение в общем этапе. Вдруг заметили, что едут они в колонне немецких машин! Что делать? Разворачиваться было опасно. Они ещё не приняли никакого решения, как над колонной появились самолеты и начали сбрасывать на дорогу бомбы. Колонна остановилась, немцы бросились прятаться в придорожные кусты. Оказывается, бомбили колонну наши самолеты. Сергей Григорьевич и его шофер оставались в машине. Они поняли, что лучшего момента им больше уже не дождаться. Шофёр завел машину и, круто развернувшись, они помчались в обратном направлении. Всё, к счастью, кончилось благополучно…
Что говорить, мне было очень дорого и приятно встретиться с родным человеком. Чувствовал, что столь же приятно было это и ему. И это ведь так естественно.
Тепло попрощались и разошлись. А наша встреча еще долгое время продолжала меня волновать…
Как-то мы с Шамилем узнали, что напротив нашей части в большом (по тогдашним меркам) доме, через дорогу, есть хороший фотограф. Мы решили сфотографироваться. Пошли. Нашли квартиру фотографа – человека пожилого, больного. Сделали три снимка (они у меня хранятся в архиве): по отдельности – я и Шамиль, и мы вместе. Расплатились «натурой» – дали две банки консервов. Фотограф был очень доволен.
В Москве в то время работали многие (может быть, – и все!) кинотеатры. Нам приходилось в них раза два-три бывать, но в дневное (может быть и в вечернее) время публики там собиралась очень мало. И чтобы привлечь людей в кино, нередко давалась «приманка». Так, например, в кинотеатре на Сретенке в фойе продавали пиво… И вот тут-то я и узнал, что Шамиль был, оказывается, большим любителем этого напитка. Даже, сказал бы, – редкостным. Мы купили билеты в кино и отправились в буфет. Начался сеанс, народу в фойе вообще уже никого не осталось, и мы взяли по кружке пива… Не могу не сказать, что я не люблю пиво. Это было раньше, так и теперь. Могу выпить стакан-полтора, но это для меня предел. Но Шамиль! Во-первых, надо было видеть его радостное возбуждение при виде кружки пива, покрытой пышной пеной! … Во-вторых, – надо было быть свидетелем того, как пьет пиво любящий его человек! Не скрывая своего удовольствия, смакуя, заразительно… Выпил кружку, попросил ещё. Затем еще, потом ещё и ещё! Я смотрел на Шамиля восторженными глазами и долгое время просто ничего не мог сказать… Наконец, овладев собой, я осторожно проговорил: «Может, хватит?» – «Последнюю!» – сказал он и снова протянул руку буфетчице. Выпил он несколько (четыре-пять) кружек! Это продолжалось минут двадцать. За это время я «одолел» только одну.




