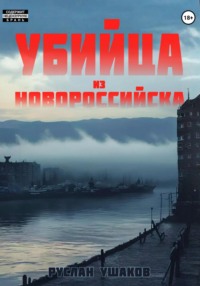Полная версия
Приключения стюардессы. Тайный заговор и опасный детектив

Руслан Ушаков
Приключения стюардессы. Тайный заговор и опасный детектив
"Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок…"
Предисловие
Я летел с пересадкой в Лондон. Вся ручная кладь моя состояла из одной небольшой сумки. Половину её заполнял айпад, большая часть записей на котором, к счастию для вас, утрачена. Историю же своей попутчицы я сохранил.
Невысокая уверенная в себе красотка, она выглядела довольно грациозно несмотря на загипсованную от плеча до кисти руку и несколько крупных ссадин на открытых участках плеч и шее.
Её взгляд ходил вокруг словно всё это её владения. Знаете ли, есть такие притягательные особы, что будут холодны и подчёркнуто учтивы пока вы не вызовите чем-либо у них доверие и первыми не проявите искренний интерес.
Чем искренней, тем лучше.
Заботливая стюардесса усадила ее рядом со мной и, когда стали подавать напитки она обратилась ко мне:
– Запястье болит. Я не смогу держать стакан даже здоровой рукой. Вы не поможете мне?
Начав с уместного любопытства о сломанной руке, мне вскоре удалось разговорить её и получить невероятную историю, в которую не поверил бы никогда, если бы она не была рассказана столь небрежно и спокойно.
– Я и подумать не могла, что спустя два дня буду лететь в самолете и рассказывать это кому-то. Вы только представьте…
1. Сломанные кости
Меня швыряет в проход самолета и плечевой костью, прямо её серединой, я врезаюсь в металлическое основание кресла. Да, я реально слышу треск. Болевой шок заставляет меня забыть о том, что через минуту мы все погибнем.
Я, она и еще несколько участников этого мерзкого заговора. Самолет словно болид расшибает препятствия перед оградительной зоной. Он отломанным крылом бороздит полосу отчуждения между аэропортом и городом, поднимая в московский воздух столбы сырой грязи.
Оглушённая грохотом, я валяюсь на полу, вспоминая, как меня зовут. Но у меня нет имени.
Моя подруга стоит надо мной и топчет меня невысоким каблуком. Я бы не боялась ее ударов так сильно, если бы пару месяцев назад она не убила новичка на тренировке в клубе тайского бокса. При зрителях.
Эта сука знает куда бить. Но меня она очевидно щадит.
Она говорит, что давно пора было это сделать.
Говорит, что я заслужила такое обращение.
Что все, кто унижали меня, были правы, и я достойна лишь этого.
Я нащупываю здоровой рукой спасательный жилет под одним из кресел самолета. Нас подбрасывает в воздух, и у меня есть пару секунд, чтобы сориентироваться.
Думаю:
– Вот-вот мы разобьемся ко всем чертям.
Я думаю:
– Тогда пламя укутает нас и успокоит.
Я чувствую адский скрежет; вибрация такая сильная, что все тело трепещет в такт терпящей крушение машине.
Чтобы вы понимали, я пилот этого самолёта.
Чтобы вы понимали, автопилот отключен и переломанное пополам шасси уже вспахивает чернозем.
И даже в эту последнюю минуту.
Она продолжает лупить меня каблуком в лицо. Хватает за волосы и заставляет подняться.
С размаху я несколько раз бью её свернутым в плотный кулек спасательным жилетом.
Она отбивается и шатаясь отступает к ящику с надписью “стафф онли”. Там мы храним личные вещи персонала.
Самолет разворачивается на девяносто градусов, и мое тело снова швыряет на кресла. Подлокотник наносит удар в бедро пронзая до кости иглами боли.
Запахов нет. Болевой шок заставляет зажмурить глаза.
А когда я приду в себя и наконец их раскрою, ситуация станет ещё хуже.
Как можно было протащить на борт самолёта пистолет?
Хотя простите. Мне стоило начать раньше.
У нас ведь есть пару часиков?
2. Кто ходит в музей по утрам?
Иногда вы хотите быть заметной. Иногда вам совсем это не нужно. Я провожу ватным диском по векам. Я смотрю на подушечку. Она в серой глинистой грязи, которая ещё несколько минут назад была моим лицом. Зеркало заднего вида наблюдает, как я смываю с себя аляпистую маску ночи.
Я снимаю шпильки с расколотыми набойками. Эта ночь удалась. Я одеваю удобные кожаные тапочки. Затягиваю шнурки. Стягиваю платье. Я прячусь под бесформенным свитером. Мне не нужны лишние взгляды. Больше. Накидываю серый в катышках халат. Интересно, кто носил его пока он был новым? Или советская промышленность выпускала одежду сразу в катышках? Что-то вроде рваных джинсов… В любом случае – для ‘работы’ это именно то, что мне нужно.
В уютном салоне преимущественно из шершавого пластика, словно в коконе, я полностью преображаюсь, стирая своё лицо. Не хватает только стонущего вокала Джаггера, как в клипе, где мужчины и женщины смывают с себя гипсовые костюмы стоя под душем. Мы все очень сильно меняемся, как только наступает рассвет. От того люди и любят сказки про вампиров.
Я сверяюсь с зеркалом. Стираю ватной подушечкой последние блёстки с островатых скул. Всё, что осталось от ночи. Снова бледная и пресная. Лицо уже лишено отличительных черт. Даже губы становятся маленькими и тонкими без помады и блеска. Как надо. Я ведь знаю, как я должна выглядеть на работе. Пихаю холодными дрожащими пальцами ватные диски в отверстие подстаканника. Шершавая матовая крышечка переворачивается, скрывая эту серую грязь. Аккуратно укладываю свою светящуюся белокурую косу под невзрачный беретик.
Я вышлепываю к служебному входу, краем глаза замечая поднимающуюся вдоль массивной балюстрады слинго-маму на пятнадцатисантиметровых шпильках. Москва.
Вхожу в помещение залитое белым светом. Глаза слезятся, и я сожмуриваюсь, чтобы прийти в норму. Мне нельзя сбавлять темпа. Нельзя, чтобы кто-то заподозрил во мне угрозу.
Вспоминаю это выражение лица: брезгливо-заискивающая улыбка одними только щеками: мы прокручивали этот момент на видео сотню раз, чтобы научиться. Научиться улыбаться так, чтобы адресату улыбки было чуть-чуть противно. Улыбаться так, чтобы тебя приняли за свою. Улыбаться так, чтобы в этом городе тебя не отличили от других.
Я делаю эту гримасу охраннику.
Бумажка в моей руке так похожа на настоящую. Наверно потому, что и настоящее удостоверение работника музея не слишком похоже на какой-то настоящий документ. Это как наживка на крючке – она должна лишь отдаленно напоминать что-то съестное, чтобы рыбка клюнула. Но так легко обмануть рыбку, которая питается чем попало.
Я небрежно раскрываю сырой от ночного пота документ перед его лицом. Перед его жирными щеками. Перед его приспущенной дебиловатой нижней губой.
Он кивает. Покорный. Ему всё равно. На мои документы, на свою работу, на себя самого.
Я топаю в египетский зал, вспоминая, как правильно сутулиться.
Здороваюсь со «смотрительницей зала».
Смотрительница зала – какое точное название для профессионала с мировым опытом по многочасовому сидению в закрытых помещениях. Мое хладнокровие на секунду дает брешь, когда она смотрит на меня с недоверием.
Я пытаюсь успокоиться. Дышу глубоко, как учили, но с первым же вдохом я понимаю, насколько воздух в музеях всегда спёрт. Не задумывались о том, что воздух в самолетах и музеях это всегда не то, что вы вдыхаете снаружи? Среда поддерживается искусственно. Особая температура, особый состав, особые экспонаты.
Я стараюсь удержать свои зрачки от бестолкового метанья по залу в поисках того, что мне нужно. Я столько тренировалась, что могла бы найти тот плафон, под которым она ждет меня, с закрытыми глазами. Но сердце уже бьётся чаще. Особенно, когда чувствую презрительный взгляд смотрительницы.
Боже, чего я боюсь? Как будто она умеет смотреть иначе?
Когда придёте в музей в следующий раз не обижайтесь на бабушек смотрительниц, что смотрят на вас надменно и с отвращением, словно один ваш вид вызывает у них артрит копчика. Как ещё должна смотреть на тела, буйствующие молодостью, маринованная по собственной воле мумия?
Она ждала меня? В окружении шаркающих посетителей, она лежит, освещенная желтым светом проектора. Знаете, помидоры в супермаркете начинают лучше продаваться, когда они лежат под красноватой лампой. Она хорошо выглядит здесь. Золотая на черном. Она закреплена на черном манекене. Пять тысяч лет красоты. Красота в чистом виде.
Я вспоминаю, как Она говорила мне: «Диадема из Трои». Я хорошо помню тот инструктаж. Я отправилась на это сафари как всегда хорошо подготовленной. «…Это Москва – Улыбайся заискивающе всем, кто имеет власть, но не представляет реальной опасности. Будь по-настоящему мила только с теми, кто действительно чего-то стоит…»
Дрожащими руками я снимаю плафон среди белого дня. Старушка смотрит на меня, покачиваясь на скрипучем стульчике. Я оставляю на плафоне отпечатки. Я подставляю нас обеих. Старушка пугливо озирается. Я касаюсь диадемы руками. Нежно снимаю её с крючков. Это словно пластическая операция, когда ваш пациент – пятитысячилетнее лицо, сотканное из сотни маленьких золотых пластиночек. Тонкое. Хрупкое. Я уже представляла себя в ней.
У каждого из нас есть фетиш.
Клеопатра.
Однажды я стану такой: гордой, красивой брюнеткой с сияющими прямыми волосами.
Но сейчас я думаю только о том, чтобы поскорее лечь спать. Оказаться в своем парящем в небесах замке. И как выбраться отсюда.
Она встает.
Пока я укладываю диадему в полиэтиленовый пакет. Нежно, как льдинку. Я закрываю застежку пластикового пакета. Они ходят вокруг и ничего не замечают. Ни золотой диадемы, которую носила царица Трои. Ни того, что самозванка среди белого дня забирает её. В центре города. Они слепцы. Просто открывает пластиковый пакет и кладет её внутрь. Звук зип-застёшки разрезает пустое пространство зала. Все смотрят по сторонам,– никто ничего не видит.
Но я чувствую кожей, как она встаёт со своего сухого стула.
Как она недоверчиво приближается.
Как она неотвратимо подползает сзади. Чувствую как запах ванильной пудры, волной цунами, накрывает меня.
Я не должна оглядываться. Хотя я совсем не хочу оказаться в её костлявой лапе.
Никогда не задумывались, где хедхантеры находят персонал для музеев? Билетёры, смотрительницы, гардеробщики? Никогда не слышали о программе «Доверие»?
Никогда не думали о том, как проходит собеседование на позицию гардеробщика?
Думаете где-то в ресторане на последнем этаже риверсайд тауэр?
Они говорят об опыте? О компенсации? О возможностях карьерного роста? О том, как переманить хорошего гардеробщика в вашу контору?
Они въедливо перечитывают резюме? Джоб оффер? Подписывают контракт и доверительно пожимают руки?
Программа «Доверие» даёт возможность бывшим заключённым найти своё новое место в жизни. Осужденным за воровство доверяют заведовать гардеробом. За мошенничество – продавать билеты. Статьи, связанные с физическим насилием, – смотрители.
Общество открывается им навстречу. Подчеркнуто демонстрирует своё умение прощать. Психологи считают, что человек, отсидевший в колонии, получил наилучшую прививку.
Такие кадры лучше тех, что совсем без опыта.
Итак, вы недавно освободились? Добро пожаловать в музей.
Вы становитесь экспонатом. И каждый день вы со страхом ждете тех посетителей, которые знают о программе «Доверие». Которые будут смотреть мимо картин и статуй… на вас. Правосудие порой принимает самые жестокие формы.
Она ускоряется у меня за спиной. Чего она хочет на самом деле? Сохранить музей от расхищения или спасти мою молоденькую мордашку от колонии? Я чувствую спиной, как её пальцы-крючки раскрываются, готовясь к броску.
Я слышу, как в пустоте зала она поднимает руку, чтобы опустить мне её на плечо.
Она загарпунит меня как большого неповоротливого тюленя.
Я спокойно опускаю пакет за полу халата. Я готова бежать со всех ног. Не стоило идти на дело не выспавшись. Я держусь из последних сил.
Моргаю. В глазах песок. Веки слипаются. Лицо влажное и липкое.
Окаменевшими от страха пальцами я опускаю на крючок картонный жетон, заготовленный заранее. Я вешаю его на крючок.
Её рука проходит мимо.
Она читает.
Сквозь толстые очки.
В роговой оправе.
«Экспонат взят на реставрацию».
3. Тряпичный воин
Если ты не общаешься с коллективом это еще не значит, что с тобой что-то не так. Вполне возможно что-то не так с коллективом.
Когда то я легко согласилась на это. Согласилась чтобы все решения за меня принимал кто-то другой. Мы все на это молчаливо соглашаемся. Пока мы дети.
Но одни начинают драться за свою свободу в три года, а другие счастливы не иметь собственного мнения всю жизнь.
Я мечтала о спорте, как о религии, которая придаст моей жизни смысла. Которая даст ответы на все вопросы.
Хотела склонить голову перед седыми старцами, которые научат вызывать у публики что-либо кроме жалости и отвращения.
Мне легко было сделать этот выбор. Отказаться от себя. Стать солдатом живущим по расписанию, тренирующимся по расписанию, питающимся по расписанию.
Я помню тот день, когда в детдом приехал тренер. Обычный день в марте. Солнечный день после долгой зимы. Той зимы, когда неба словно вообще нет, а вместо него монотонный серый купол. Солнца не было с ноября, словно нас забыли в машине накрытой на зиму брезентом.
И вот он первый ясный день.
Я смотрела в окно так долго, что видела как большие сугробы на обочине дороги съёживаются под прямыми лучами солнца. Как на их белоснежной поверхности сначала появляются серые точки пыли, потом этих серых точек становится так много,что они собираются в паутину грязи. Как из- под этого снежного холмика появляется лужа, а потом тоненькая струйка ищущая кончиком ручеек. И вот они смыкаются и талая вода грязного придорожного сугроба начинает заполнять раздолбанную годами колею.
Я ждала своей колеи. Я мечтала о том, чтобы стать свежим весенним ручьём, который пропоет миру о радости быть живой, но нашла лишь дорожную колею, все повороты которой заранее известны.
Подъехала машина. Из неё вышли несколько короткостриженных взъерошенных мужчин. В кислотного цвета пуховиках они выглядели как мальчики подростки, если бы не тяжелая усталая походка затравленных волков измождённых необходимостью регулярно находить свежее мясо для своей стаи.
Нас построили перед ними небольшим полукругом. Тесные рейтузы больно давили резинкой на живот в районе пупка, в животе урчало и запах овсяной каши с кухни дразнил ещё больше.
Нас учили смирению.
Я стояла ковыряя носком старый ковёр. На кухне звенели аллюминиевыми кастрюлями. Но мы словно не слышали всей этой обыденности. Мы вдыхали воздух надежды. Надежды стать кому-нибудь по-настоящему нужными.
Бесризорные. Брошенные. Не нужные.
Вы когда нибудь просыпались с мыслью о том, что никому дела нет до того доживете вы до вечера или нет?
С мыслью о том, что если вы провалитесь в открытый канализационный люк или старшие "подруги" случайно забьют вас на смерть в одной из своих "игр", то никто ни через день, ни через неделю, ни через год не вспомнит о вас?
Мы вдыхали маленькими сопливыми носиками этот воздух.
Вы играли с другими детьми, которые среди игры начинают плакать? Плакать от скуки и тоски, которая выедает их изнутри.
Нет смысла.
Мужчины вошли и выстроились гурьбой, убирая руки в карманы, смешно оттопыривая куртки. Они не до конца затворили за собой дверь и поногами тянуло. Я ковыряла замерзающей ножкой ковер, чтобы зарыть носочек в теплый ворс.
Мы дышали этой надеждой.
Вы бы хотели вернуться туда? В мир детей с глазами мертвецов? На каждом шагу. Они стонут и плачут от того, что на животном уровне ощущают безысходность.
Мы стояли полукругом в небольшом зале, в котором обычно делали зарядку. Мы изо всех детских сил старались понравиться.
Кто как умел.
Мы стрались поглубже вдохнуть.
– Ну, как вы тут? – деланно озорным голосом спрашивает он. Улыбка выдаёт его с поторохами: так улыбаются только люди, забывшие уже как искренне улыбаться. Волосы ёжиком, из-за спины лупит утренний свет, и он весь в ореоле золотого сияния от пархающей в солнечных лучах пыли.
Словно спустился в наш ад из прекрасного мира.
Это потом я пойму, что там снаружи целая страна таких беспризорных, как мы. Брошеных на приозвол судьбы на краю земли.
Это случится, когда лайнер впервые поднимет меня на тысячу километров вверх. Я вдруг увижу, что мир то на самом деле огромен. И тот клочок, что меня заставляли называть родиной – это обочина. Обочина, на которую лишь время от времени попадают солнечные лучи. И, пока длится весна, ручейки изо всех сил стремятся сбежать от туда. Торопятся успеть пока холода вновь не сковали их, подписывая приговор оставаться лишь льдинкой у подножья огромного сугроба.
Вы когда-нибудь видели Россию на снимках из космоса?
Целая страна едва виднеющаяся из-под сугроба.
Целая страна беспризорников. Без родительской любви. Без памяти предков. Без родовых книг. Миллионы пеньков от генеологических деревьев.
Мне кажется, что я в иллюминатор вижу, как родители садятся на пароходы и океанские лайнеры оставляя детей замерзать в этом диком краю. Оставляя их наедине со старшими детьми, которые по зову инстинкта тут же возомнят себя родителями, начнут играть в государство.
– Вы хорошо себя вели? – он улыбается. Оглядывает всех по головам. Намётанный глаз ищет лучший "материал". Я выгибаю спинку, чтобы выглядеть более собраной. Я знать не знаю таких слов как "осанка" и "грация". Я просто стараюсь понравиться.
– Хорошо! – отрепетированным хором отвечаем мы.
Мы все стремимся понравиться, чтобы нас забрали из этой жизни в лучшую.
Целая страна людей, которым некому нравиться. Потому что все старшие уезжают отсюда.
Нет ничего более жестокого, чем бунт рабов. Нет более жестокой сиделки, чем девочка оставшаяся за старшую пока наша привычная сестра-сиделка взяла выходной.
Поэтому мы ведём себя тихо. как бы сильно нас не били. Поэтому мы пригибаем головы, только бы нас не оставили совсем наедине с нашими "подругами". Ведь тогда новый виток жестокости.
Всё чему учит нас детство: худшие времена всегда впереди.
– Девочки, вы уже знаете, зачем мы сюда приехали?
По ногам тянет и комнату постепенно заполняет шмыгание маленьких носиков.
– Сегодня мы выберем из вас будущих спорстменок. Будущих чемпионок.
Будущие чемпионки вытирают рукавами сопельки.
– Нам нужны ответственные и смелые… Вы готовы много тренироваться и не жалеть сил ради победы?
Я уже была готова ответить да, если он только взглянет на меня. Нас учат соглашаться со старшими. Какую бы мерзость вам не предлагали.
Я уже почти не слышу его слов. Только ручьи, что журчат у меня в носоглотке. Я шмыгаю и вытираю носик рукавом. Пальчики на ногах задубели.
– Кто из вас готов посвятить свою жизнь спорту?
"Посвятить жизнь мне".
"Отдать своё детство ради реализации моих амбиций".
"Утроить количество жестокости и истязаний в своей жизни. Выйти на новый уровень".
Я просто сделала шаг вперед, и он увёз меня.
4. Метро
Я торопливо семеню по выбеленной сотнями туристов плитке, оставляя за собой страх и волнение. Я справилась.
Делать так, как Она велит.
Это страшнее прыжка с крыши. Попробуйте хоть раз: выйти за рамки закона. Тот, кто испробовал это в подростковом возрасте – купил билет в один конец.
Это можно по телевизору рекламировать.
Ловлю изучающий взгляд. У двери невысокий мужчина в штатском смотрит на меня. Обвисший плащ, неухоженное лицо с внимательными пожелтевшими глазами, готовыми ко всему. «Он не служит здесь»,– думаю я, пытаясь не смотреть в его сторону. Я ведь играю сотрудницу реставрационной мастерской сегодня.
– Простите, вы только что… – неловко пытается остановить меня он. Где-то в глубине души я бы хотела, чтобы он поймал меня. Хотела бы, чтобы он спас меня от неё.
Я улыбаюсь, не сбавляя темпа. Это главное, чему нас учит наша профессия: улыбайтесь, даже, если ваш самолет входит в штопор. Улыбайтесь, даже, если вы не собираетесь помогать обратившемуся.
– Вы кажется только что…
На мне маска «все в порядке». Я двигаюсь мимо. Рано или поздно кто-то бы выследил цепочку исчезновений дорогих экспонатов.
–… можно ваши документы?
– Я очень то-о-роплюсь, – улыбаюсь я и выхожу из музея.
И без того тяжелая дверь кажется просто неподъемной.
Он не торопится и, словно нехотя, следует за мной.
Какого черта! Я могла бы уже сидеть в машине, но теперь… теперь я должна пройти мимо, иначе ему станут известны наши номера. Я не могу приводить хвост. Он идет за мной.
Я ныряю в метро. На эскалаторе он даёт мне возможность отдышаться. Нащупываю тонкими пальцами в кармане лучшего друга любой женщины: зеркальце.
Любая женщина делала так.
В роли зеркала заднего вида – пудреница. Я рассматриваю своего осунувшегося опера. Он ищет меня где-то впереди.
Зеркало гораздо более жестоко, чем женский взгляд.
Небритость… невзрачный плащ не скрывающий ворота заношенной рубашки… синяки под глазами… Что не даёт тебе покоя?
Кропоткинская. Библиотека имени Ленина. Подземные дворцы давно свергнутого короля.
Я словно слышу Её голос: «Если вас кто-то заметил – скройтесь. Лучшее место, чтобы спрятать дерево – это лес. Лучшее место, чтобы спрятаться самому – это толпа».
Я ныряю в толпу. Многие годы я стремилась уйти отсюда. Перестать быть такой как они. Как все эти люди, бредущие по переходам в надежде забыть, что у жизни должен быть смысл. Людские реки. Стаи рыб сбивающихся в косяки в страхе перед открытым океаном жизни.
Студенты в наушниках, чтобы не слышать голоса неизбежного будущего, в котором их никто не ждёт.
Офицеры в отставке с научной фантастикой в руках, чтобы не видеть руин разрушенной империи. Холодная война не просто закончилась. Вы проиграли её.
Женщины, одевающиеся «умеренно ярко», чтобы выделяться на общем сером фоне, намекая на ещё не угасшую фертильность[1], но и не быть мухомором в этом тусклом подземелье.
Так легко плыть по течению. Любая рыбка это сможет. Даже самая маленькая. Даже мёртвая рыбка.
Представьте себе реку полную мёртвой рыбы.
Я закрываю глаза. Пусть за моей спиной будет кто угодно, кроме правдолюбивого служаки не желающего пройти мимо моего маленького преступления.
Сколько лет я потратила на то, чтобы стать другой, но сейчас единственное, что может меня спасти – это быть как они.
Я не всегда была такой сильной.
Представьте себе маленькую комнатку, где единственное лицо пышущее жизнью – это плакат Ромы Зверя, кочующий вместе с ней из города в город. Бледная русская снежная пустыня за окном.
Представьте себе четырнадцатилетнюю девочку, погруженную с головой в альбомы Агаты Кристи. Живущую среди копящейся по углам пыли.
Когда у вас нет родителей, с восьми до шестнадцати лет вы погружены в абсолютный тактильный штиль. Никто не прикасается к вам. Словно вы в депривационной[2] камере.
Вы можете быть кем угодно, если у вас нет родителей. Представляться любыми именами, потому что никто не зовёт вас по имени.
Представьте себе девочку, которая гнётся из стороны в сторону, как тряпичная кукла. На которую орут.
Только орут.
Представьте себе девочку, которая забыла свое имя под обзывательствами и оскорблениями своего тренера.
Когда ты занимаешься спортом, в котором в 16 ты считаешься старой, у тебя нет времени думать о том, кто ты на самом деле. Ты то, кем тебя считает тренер.
Ты можешь иметь медаль. Ты можешь сгибаться пополам под тяжестью медалей. Но ты одновременно можешь и не знать, что твоё имя знает весь мир. Если он скажет, что ты неудачница – ты будешь неудачницей.
Представьте себе брекеты.
Прибавьте ортодонтические пластины, которые мешают вам говорить. Которые мешают вам глотать. Умножьте это на тренера, который мешает вам понять, кто вы такая.
Представьте себе девочку, которая не знает что такое поцелуй.
Когда тебе 15 ты влюбляешься во всё, что двигается. Каждую весну твоё сердце хочет вырываться наружу. И при этом в твоей жизни нет ничего постоянного. Ты хочешь целоваться, как акула хочет есть. Но ты боишься обнажить металлическую клетку, в которую закованы твои страшные зубы. Они не примут тебя такой. И ты меняешься.
Ты влюбляешься во все, что угодно. Во все, что угодно кроме собственного отражения. Нет никого более жестокого, чем зеркало. Коса, бледная кожа, грязная от угрей, прыщей и сыпи.
Бесформенное тело, которое невозможно не ненавидеть. Ненавидеть сильнее, чем японка любит Стича[3].
Представьте, она не знает ничего кроме сборов. Перемена мест. Перемена лиц. Перемена имен в паспорте, чтобы участвовать в соревнованиях, в которых ты не имеешь права принимать участия.