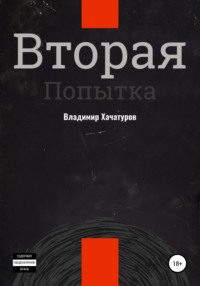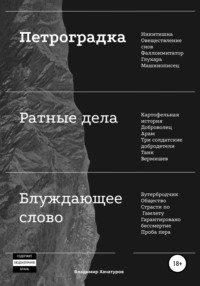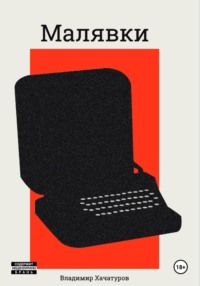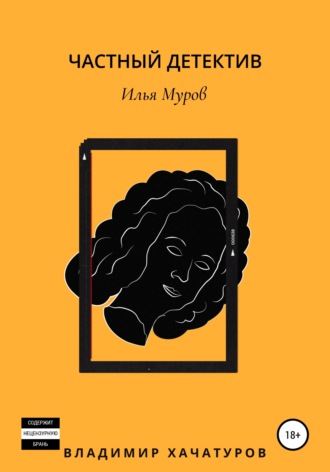
Полная версия
Частный детектив Илья Муров
– Это клевета! – вскричал учитель географии. – Плинии никогда бы не позволили себе таких уничижительных обобщений!
– Если б спознались с таким злом, как детективы, то непременно позволили бы, – стоял на своем подполковник.
– И это говорите мне вы, Владимир Антонович? – вопросил в изумлении Семиржанский. – Вы, который не далее, как три дня тому назад, доказывали нам с Ильей Алексеевичем, что в борьбе со злом царит великая путаница, потому что зло должно быть наказано, а вовсе не уничтожено, поскольку добро без зла ничего не стоит…
– Это не я говорил, а ваш любимый Анатоль Франс. Я же полагаю, что из двух зол следует выбирать меньшее, а большее ликвидировать. В данном конкретном случае это означает, что По может быть обменян на достойного автора, тогда как Ван Дайн и иже с ним пощады не достойны, а значит, подлежат уничтожению…
– Да, – горестно кивнул головой Семиржанский, – вы сожгли его и тем самым не уменьшили, но умножили зло…
– Как не уменьшили? – удивилась Марья Федоровна. – Как – умножили зло? Мы добро, добро преумножили! Вон, сходи к ямке и погляди, сколько из этого мерзопакостника удобрениев минеральных получилось!..
– И устами стариц, а не только младенцев, глаголет истина! – возгласил Елпидов, назидательно потрясая указующим перстом.
Семиржанский в ответ истерически хихикнул и, скользнув по ближайшей полке безумным взглядом, вдруг выхватил какую-то книгу и протянул хозяйке, говоря:
– Вот вам, Марья Федоровна, еще один недостойный для ваших удобрений. Мало того, что сам заядлый детективщик и верующий католик, следовательно, противник православия, так у него еще и сыщиком не кто иной, как католический поп – тот еще охмуритель. Наверняка без его пагубного влияния на Илью Алексеевича не обошлось…
– Зомбирующее очарование апокрифического священника Брауна! В самую точку, Аркадий Иваныч! – вскричал осененный какой-то проницательной мыслью подполковник. Но, заметив, как опасливо отодвинулась от него хозяйка, слегка охолонулся и продолжил тоном более ровным и, к огорчению Семиржанского, более веским:
– Смею утверждать, что подобная аура присуща многим знаменитым сыщикам, иначе их расследования не пользовались бы успехом у публики. Тот же Эркюль Пуаро, не обладай он даром внушения, вряд ли смог бы убедить весь Восточный Экспресс в том, что случайная смерть одного из пассажиров была заранее спланированной акцией отмщения целой кучи разношерстного народа. Что касается Шерлока Холмса, то ему в какой-то мере было легче, поскольку достаточно было влиять всего на одного человека, к тому же прекрасно ему известного, чтобы на бумаге получалось все так, как вне ее обычно ни у кого не получается. Впрочем, есть у меня подозрение, что с Холмсом все обстояло еще проще, почти божественно: люди, которым этот сыщик, пользуясь своим методом, приписывал всякого рода несуразности, подтверждали его правоту просто по доброте своей сердечной. Им это ничего не стоило, а Холмсу – приятно. Зачем же перечить и доказывать обратное, когда можно, не напрягаясь, разрешить всё ко всеобщему удовольствию: и героя, и автора, и издателя, и читающей публики! Что вы такое затеяли, Аркадий Иваныч?
То, что затеял Аркадий Иванович, вряд ли нуждалось в объяснении – только в описании. Описываю. Аркадий Иванович, мигом догадавшись, чем грозит красноречие подполковника обожаемому им Шерлоку Холмсу, принялся споро избавлять полки от книг сэра Артура Конан Дойла, укладывать их штабелем на столе и пытаться уподобить аккуратной связке с помощью ремня с собственных брюк и найденного на том же столе сантиметра. При этом он, то ли чтобы усыпить бдительность хозяйки, то ли чтобы отвлечь подполковника от сути происходящего, громко и довольно связно ворчал, бормотал и даже бредил все на ту же тему примерно следующее:
– …Я понимаю, я не спорю, что слухи об «изысканной» логике расследования, якобы присущей романам Агаты Кристи, несколько преувеличены. Я даже не стану подвергать беспощадному анализу печально знаменитый «Восточный Экспресс», где автор громоздит одну «подставу» на другую, чтобы в конце концов подчинить весь сонм персонажей гипнотическим чарам Пуаро (как справедливо заметил подполковник), доказывающему, как дважды два, что читатель остался в дураках. Я даже не буду брать в качестве образчика менее знаменитый и более показательный для «изысканной логики» этого автора роман «13 сотрапезников», где вся интрига построена на святом (читай упрямом) нежелании американки нумеровать страницы своих пространных писем, что позволяет злоумышленникам изъять разоблачающую их страницу, причем без всякого ущерба для смысла и связности сей эпистолы… Если высокий суд решил, что Агата Кристи достойна костра, значит, так тому и быть. Пускай горит синим пламенем вместе со своим тыквоголовым усачом и божьим одуванчиком по имени мисс Марпл, которую американские телевизионщики так удачно изобразили в виде мегеры с лягушачьей улыбкой и круглыми немигающими глазами удава. Да будет им марьфедорывнина ямка пухом, канопой и небесами!.. Более того, я даже Честертона не стану защищать, хотя для него детектив – всего лишь повод высказать несколько заветных мыслей, тонких наблюдений, спорных идей, парадоксальных догадок… В конце концов, отличие таких авторов, как Честертон, и таких героев-сыщиков, как патер Браун, в том и состоит, что они подвигают читателя не просто пожирать глазами более или менее занимательный текст на уровне первой, изредка – второй сигнальной системы, но будят мысль и взыскуют воображения, ибо не соглашаться с ними можно только на интеллектуальном уровне, утробное отрицание тут бессильно…
– Ну спасибочки, Аркадий Иваныч, – оскорбился Елпидов. – Значит, я утробно отрицаю на уровне первой, дай Бог, второй сигнальной системы?
Но Семиржанский то ли сделал вид, то ли действительно не слышал подполковника, поглощенный своими горестями, своими жалкими попытками оправдаться пусть в частичном, но все же предательстве:
– Если даже такой безусловный талант, как Честертон, не в состоянии защитить себя и своего героя сам, то я тут бессилен, и утешает меня лишь одно: эпопеей о патере Брауне Честертон не исчерпывается; есть еще «Человек, который был Четвергом», «Перелетный кабак», «Возвращение Дон Кихота», «Охотничьи рассказы»… А что останется от Конан Дойла, если эти варвары уничтожат «холмсиану», объявив ее гнилым плодом «вандайщины»? Конечно, «Белая стрела». Разумеется, «Бригадир Жеррар». Несомненно, «Затерянный мир», «Ядовитый пояс»… Но для создателя Шерлока Холмса это слишком мало! Да и что останется от мира, в котором нет Холмса, нет Гамлета, нет Дон Кихота, нет Христа?.. Увы, Конан Дойл Шерлока Холмса защитить не может, он сам не раз покушался на его жизнь. Значит, придется это сделать мне…
И, преисполненный решимости, Семиржанский, у которого никак не получалось увязать несколько томов «холмсианы» в крепкий штабелек, вдруг сдернув с пустующей кровати Ильи Алексеевича покрывало, расстелил его одним ловким движением на полу и со словами «Пардон, Марья Федоровна, с меня два таких же, но шелковых», принялся бережно переносить спасаемые книги со стола на покрывало.
– Зря вы так, Аркадий Иванович, – сжалился Елпидов над Семиржанским. – Я никогда не говорил, что отношу Конан Дойла к вандайщикам, и, разумеется, не собираюсь отправлять его в ямку. Напротив, я предполагал обменять его «холмсиану» на что-нибудь действительно необходимое каждому культурному человеку, например, на… – Подполковник намеревался назвать несколько громких литературных имен, не нуждающихся в представлении (таких, как, допустим, Марсель Пруст, Томас Манн или Ульям Фолкнер), но, вовремя покосившись на тетку нашего отставника, почел за лучшее не искушать судьбу нерусскими фамилиями и поспешно заменил их пусть и менее громкими, но куда более приемлемыми на слух именами: Константин Федин, Михаил Шолохов, Леонид Леонов…
Семиржанский скептически фыркнул. Для него, прекрасно осведомленного о литературных пристрастиях подполковника, приведенные имена кандидатов на равноценный обмен красноречиво свидетельствовали о неискренности Елпидова. При этом Аркадий Иванович, конечно же, понимал, из каких побуждений или, точнее выражаясь, по чьей милости вынужден был Елпидов покривить душой (сам-то учитель ожидал услышать имена авторов более выдержанных временем, овеянных многовековой прочной славой: Боккаччо, Рабле, Сервантес, Гриммельсхаузен (К слову сказать, если бы у Аркадия Ивановича вдруг случилось повреждение рассудка, и он бы решил, что Конан Дойл может быть равноценно обменян, то его список авторов выглядел бы иначе, возвышеннее: Иоганн Шиллер, Виктор Гюго, Ромэн Роллан…)), но тот факт, что Елпидов перечислил авторов, совершенно им не уважаемых, даже третируемых при каждом удобном случае («Ах, эта неслыханная новизна и образность черного солнца Гришки Мелихова! Словно не было до него ни Бодлера с его «соленой пеной нег двух черных солнц», ни Мандельштама, свидетельствовавшего, что он «проснулся в колыбели, черным солнцем осиян»»), побудил учителя усомниться в добрых намерениях подполковника относительно Конан Дойла.
– Это вы только так говорите, Владимир Антонович, что будто бы Конан Дойл не вандайщик, неизвестно в каких целях, то есть очень даже известно в каких, желая ввести меня в заблуждение… Думаете я не помню, как вы на прошлой неделе в присутствии Ильи Алексеевича буквально измывались и над «Подрядчиком из Норвуда», и над «Человеком с рассеченной губой» и даже, страшно сказать, над самой «Собакой Баскервиллей»!3
– Ну, положим, над собакой-то я как раз не измывался, – возразил Елпидов. – Напротив, мне всегда больше всех было жаль в этой повести именно собаку. Сначала из нее сделали товар, потом превратили в монстра, а напоследок безжалостно застрелили. Бедная псина! Хотя если бы в реальности ей вымазали морду той гадостью, какою ее вымазал Конан Дойл в своем произведении, она бы издохла значительно раньше, причем, в страшных мучениях…
– Вот! Вот! – вострепетал Семиржанский. – Вы и сейчас продолжаете измываться над беззащитным автором! И вы хотите, чтобы я поверил, что Конан Дойл не вандайщик?! Никогда!..
– А и то, Владим Антоныч, – дрогнуло женское сердце тетки нашего отставника, – ты душу-то не томи, скажи сразу, кто тут эти самые, которые с валдайщины?
Елпидов взглянул на Марью Федоровну и, встретив ее честный, взыскующий простоты и справедливости, взгляд, перевел очи на Семиржанского. Однако там он обнаружил нечто настолько умильно-неописуемое, что вынужден был зажмуриться и прикусить язык от греха подальше. Наконец он открыл глаза, уставился на полки, вгляделся, осмыслил, придал своему лицу решительно-робеспьеровское выражение и глубоким, отдающим сталью голосом начал перечислять:
– Габорио, Гастон Леру, Леблан, Джозеф Уоллес, Эллери Куин, Джон Диксон Карр, Барнаби Росс, Сидни Шелдон… Что с вами, Аркадий Иваныч?
Учитель, который тем временем прилагал лихорадочные усилия для спасения авторов, которых считал достойными спасения, складывая их произведения обок с «холмсианой», вдруг зашелся в безудержном, но отнюдь не истеричном, а скорее издевательском смехе.
– Может, за валерьянкой сбегать? – сердобольно шепнула подполковнику хозяйка.
– Не надо за валерьянкой, Марья Федоровна – отказался от помощи Семиржанский. – Валерьянка тут не поможет… Вот, что я вам скажу, товарищ подполковник в отставке. Скажу и на этом поставлю точку в этой бесплоднейшей из дискуссий. Прежде чем судить кого-либо, надо хотя бы знать, кто он. Этого требует простая человеческая справедливость. Недаром любой суд начинает с того, что устанавливает личность подсудимого. Любой, но только не ваш, товарищ политрук… Вы осудили Эллери Куина, а вслед за ним Барнаби Росса, даже не зная, что это два псевдонима одних и тех же авторов, двух двоюродных братьев – Фредерика Даннэйя и Манфреда Ли, – пишущих вместе…
– Вот горе-то великое! – хотел воскликнуть Елпидов. – Два бартца-засранца вместо двух злостных вандайщиков!
Но почему-то не воскликнул. Даже наоборот: обескуражено улыбнулся и простодушно признался, как бы удивляясь своей вопиющей неосведомленности и одновременно отдавая должное собственной читательской интуиции:
– Что, действительно один и тот же автор? То есть два одних и тех же? Надо же, а я-то все голову ломал: кого мне этот форменный осел Тэмм в «Последнем деле Дрюри Лейна» напоминает? А теперь, когда вы меня столь тактично просветили, вдруг сразу понял кого: да ведь этот псевдосыщик Тэмм вылитый папашка Эллери Куина – такой же безмозглый, припадочный и до колик балаганного смеха убедительный…
– Так кого ж из них в ямку-то? – застыла в нерешительности Марья Федоровна, успевшая своим дальнозорким оком высмотреть на полках обоих родственников: и Эллери Куина, и Барнаби Росса…
– Всех, – сказал Елпидов и стер с лица всякое подобие улыбки. – И Сидни Шилдона не забудьте прихватить. А если попадется вам на глаза какой-нибудь Майкл Утгер или, паче чаяния, Гарольд Роббинс, то и их не щадите. Все они, Марья Федоровна, как есть с валдайщины…
– Нехорошо маленьких обманывать, – высунулась из коридора племянница. – Эта ваша агапе, Аркадий Иваныч, оказалась вовсе не такой любовью, какой могут мужчины могут любить друг друга, чтобы не сделаться голубыми… Ой, Аркадий Иваныч, вы куда?
Но Аркадий Иванович не слушал уже никого. Набив до отказа покрывало книгами, и увязав его как можно туже, он взвалил образовавшийся узел – величиной с рюкзак усердного любителя дальних походов – на плечо, кое-как перебрался через подоконник во двор и, не попрощавшись, скрылся в направлении калитки.
– Ну и скатертью дорожка, – решила Марья Федоровна. – Без него быстрее справимся. А то слишком уж жалостливый: и того не тронь, и этого не замай, да еще и варвáрами обзывается… Так кого, Владим Антоныч, ты говорил, в ямку снести, Рубенса?
– Рембрандта, – буркнул поскучневший Елпидов и, усевшись на стул, на котором не так давно стоял Семиржанский, полез по карманам в поисках курева.
– У, нехристь! – приняла к сведению имя еще одного выходца с валдайщины Марья Федоровна и пошла шерстить глазами полки, вышептывая имена и псевдонимы претендентов: «Душила Хемéт… Дикий Френсис… Француз, значит… Рай… Рей… Рем… бренд Чандлер…»
– Ага, попался, злыдень! Нашла я, Владим Антоныч, Реймбренда этого…
– Бабушка, Владимир Антонович пошутил. Рембрандт – художник, а не детективщик, – явно страдая за бабушкино невежество, объяснила племянница. Но на Марью Федоровну это заявление впечатления не произвело.
– Все они художники. А как присмотришься, так сразу видать – с валдайщины…
– Вы бы, Юлия, вместо того, чтобы в коридоре торчать, лучше б бабушке помогли, – сказал Елпидов, так и не нашедший сигарет в своих карманах и от этого пришедший в еще более кислое расположение духа. – Поверьте, от вашего мистического трепета отдает обыкновенным жеманством…
Личико Юлии пошло красными пятнами. Глаза наполнились чистыми слезами незаслуженной обиды.
– Да если бы не я, Владимир Антонович… Если бы я свечку за вас не держала и наговор не наворожила, то вы бы все тут передрались и перессорились. Говорила же я, что в этой комнате нельзя посторонним долго находиться… Здесь только дядя Иле можно: и он с ними в ладу, и они с ним в согласии…
– Вот он ладом с ними в больнице и очутился, – усмехнулась лепету внучатой племянницы тетка нашего героя.
– И какой же наговор вы наворожили, если не секрет? – слегка оживился Елпидов.
– А смеяться не будете?
– Если не рассмешите, то не буду, слово офицера!
– И не обидитесь?
– Приложу все силы, Юленька…
– Да не слушай ты ее, Владим Антоныч, козу эту, – бросила Марья Федоровна, направляясь с очередной партией вандайщиков к окну. – Они ж теперь все на этих американских ведьмах с ума посходили, как Илюха на сыщиках… – И осеклась на полуслове, вдруг встав, как вкопанная и уронив с грохотом книги на пол. Затем, мелко крестясь, зачастила: свят-свят-свят…
Елпидов с племянницей обернулись на грохот и узрели… Нет, не чертей, не маньяков и не серийных убийц, а учителя Семиржанского все с тем же тугим узлом за спиной переваливающего со двора обратно в комнату. Но только когда он, наконец, оказался в комнате, выпрямился и огляделся, до них дошло – что так напугало Марью Федоровну в его облике. Ошалелые глаза, всклокоченная голова и совершенно бессмысленная улыбка.
– Вот, обменял, – прошептал учитель. – Только за околицу вышел – налетели, отняли, разобрали, напихали, на спину накинули и во двор обратно втолкнули. И без новой партии детективов наказали не возвращаться. У, бандиты!..
Семиржанский хихикнул, скинул с плеча узел и широким жестом удачливого рыбака ссыпал весь улов на пол, нисколько не заботясь о сохранности переплетов. Одна из книг, ударившись о половицу торцом, выпрыгнула из общей массы и шлепнулась прямо перед Елпидовым.
– Константин Федин. Первые радости, – прочел про себя подполковник и зажмурился.
– Кола Брюньон, – сообщила, подняв одну из книжек, осмелевшая племянница.
– Это что еще за смерть в Венеции?! – обрела голос тетка нашего отставника. – Шило на мыло?
– Эй, хозяйка – послышался со двора малознакомый присутствующим голос. – Это я, Еремей Пантюхин. Меня Лексеич из больницы прислал. Велит, чтоб выдала ты мне детективные книжки какого-то Канона Дуля… Эй, есть тут кто? Хозяйка! Марья Федоровна, это я, Еремей…
И так далее.
ГЛАВА IХ
рассказывающая о палате № 16, ее обитателях и царящих там порядках.
Тетка нашего отставника ничуть не преувеличила, поведав в предыдущей главе о чрезвычайной строгости нравов, практикуемых в городской больнице в отношении черепно-мозговых пациентов. Действительно, в 16-й палате, предназначенной волею медицинских властей для граждан с ушибленной верхней конечностью, отсутствовал не только его величество телевизор, но даже такая необходимая мелочь как радиосетевой бормотальник. Однако этими драконовскими мерами медики не ограничились. Обитателям 16-й палаты категорически запрещалось развлекать себя чтением газет, журналов и вообще любой периодики, включая кроссвордно-сканвордные издания, что, в общем-то, с одной стороны вызывало недоумение, если учитывать общепризнанное свойство кроссвордов разгонять мрачные мысли, делать незаметным лёт минут и преисполнять эго своих разгадывателей чувством глубокого удовлетворения от сознания собственной эрудированности. Зато с другой стороны, легко объяснялось стремлением эскулапов уберечь травмированные черепа пациентов от неимоверного напряжения, коим чреваты поиски ответов на такие заумные вопросы, как например, «темное время суток», «прыжки по клеткам по асфальту», «альтернатива ада», «безрогий участник корриды» и многие, многие другие, не менее головоломные…
Высокая литература также не была упущена из виду лечащими властями. До недавнего времени она даже поощрялась. Так больные, но излечимые, могли в волю читать и, до первых признаков интеллектуального изнеможения, перечитывать «Былины», наслаждаться «Илиадой», упиваться «Беовульфом», срывать цветы удовольствия с «Повести временных лет» и даже пытаться постичь ускользающий смысл «Бовы-королевича». И больные, надо признать, вовсю этой щедрой поблажкой пользовались, взахлеб упиваясь шедеврами мировой литературы, пока однажды некий томимый черепно-мозговым недугом землемер, с виду увлеченно поглощавший «Порхающую ласточку» Цинь Чуня (что уже само по себе должно было вызвать подозрения, но почему-то не вызвало), вдруг не пришел в великую ажитацию и не принялся на чем свет стоит костерить Джеймса Хэдли Чейза как автора «Плохих вестей от куклы», в которых подлые гангстеры импортируют китайцев в США через страны Карибского бассейна, тогда как любому мало-мальски грамотному читателю известно, что Америку от Китая отделяет Тихий, а не Атлантический океан, в чью юрисдикцию и входит злосчастное Карибское море… И все бы ничего, и скандал, возможно, удалось бы замять, инцидент спустить на тормозах, бунт обезглавить и выдать за легкое недомогание энцефалопатированного интеллекта, не справившегося с национальными особенностями китайской классики, полной тонких намеков, решительных недомолвок и пространных умолчаний, если бы поблизости случилась медсестра с успокоительным укольчиком или хотя бы дежурный врач с увещевательным молоточком. Но увы, ни того, ни другого поблизости не случилось (что позже стало предметом отдельного служебного разбирательства), а случился на общую беду пациент той же палаты некто Гультяев, который своими безрассудными репликами и завиральными идеями4 довел возмущенного землемера до буйного припадка с элементами исступления и признаками умопомешательства, каковые в конечном итоге и спровадили беднягу из палаты № 16 в палату № 6, что располагалась в отдельном флигеле во глубине больничного двора.
Разумеется, такое безобразие не могло не встревожить больничное начальство. Срочно назначенная комиссия в составе: заведующий отделением, ординатор, интерн, старшая медсестра, дюжий санитар – совершила несколько сенсационных открытий. Так Публий Овидий Назон оказался автором не только знаменитых «Метаморфоз», но и нескольких криминально-орнитологических трактатов вроде «Дела о пеликанах», «Дела о хромой канарейке», «Мальтийского сокола» и «Шести дней Кондора». Великого Данте неудержимо влекло ко всяким таинственным емкостям и помещениям, в силу чего наименования его работ особой оригинальностью не отличались: «Тайна старой штольни», «Тайна закрытой комнаты», «Тайна голубого кувшина», «Тайна египетской гробницы» и т. п. Гениальный Гете и тут не изменил своей педантичной последовательности, плавно и безболезненно перейдя от изучения минералов к натурфилософскому осмыслению сущности драгоценных камней и металлов в жизни человеческих существ, о чем красноречиво свидетельствовало несколько занимательных повестей, пронизанных аттическим релятивизмом: «Голубой карбункул», «Берилловая диадема», «Камень Мазарини», «Кольцо Тота», «Сапфировый крест», наконец, «Золотой дублон Брошера»… Словом, удивлению следственной комиссии не было предела, так что отдельные ее члены то и дело порывались встать на уши, впасть в истерику и проклясть людскую неблагодарность, вкупе с ее же изворотливостью, на веки вечные. Однако настоящий, почти что клинический, шок вся комиссия в полном составе (включая санитара, чьи литературные интересы далее просмотра телепрограммок не простирались) испытала тогда, когда в томике избранной прозы Александра Сергеевича Пушкина вдруг обнаружила произведения низкого галантерейно-шмоточного содержания5, чьи названия говорили сами за себя, не испытывая нужды в каких-либо комментариях: «Пестрая лента», «Костюм из газеты», «Загадка больничных туфель», «Черная кожанка», «Классный пуловер», «Отравленные подштанники»…
Оргвыводы лечащих властей оказались адекватными постигшему их разочарованию. Никаких книг! Никакой литературы! Никакого самостоятельного чтения! Отныне и впредь учреждается единый для всех академический час художественной словесности, в течение которого черепно-мозговые пациенты с неослабевающим вниманием и возрастающим интересом выслушивают официально одобренные душеполезные произведения в исполнении дежурной медсестры. Уснувших не будить, возражающих укрощать противоспазматическими инъекциями.
Самым полезным для травмированных голов обитателей 16-й палаты медицинское начальство нашло сочинения М.М. Пришвина, которые и стали выдавать больным перед сном в научно отмерянных дозах: то есть сперва «Кладовая солнца», затем «Кощеева смерть», и в конце, в качестве предупреждающего рецидивы средства, – «Осударева дорога».
Нельзя сказать, чтобы эта «предтеча гринписсизма» (как отозвался о Пришвине уже небезызвестный читателю Гультяев) внесла успокоение в души черепно-мозговых постояльцев, примирила их с отсутствием прочей, опасной для здоровья литературы. Скорее наоборот: вызвала ропот недовольства, шепот негодования и робкое политическое брожение травмированных умов. Главному врачу было направлено официальное послание, в котором «общественность 16-й палаты» настоятельно просила, а по сути – требовала вернуть старые порядки, разрешить индивидуальное беззвучное чтение если не всей мировой классики, то хотя бы отечественной, и одновременно клялась оправдать высокое доверие властей и более никаких литературных сенсаций не учинять. Власти откликнулись на послание заведенным порядком: главврач с размашистой неразборчивостью начертал красным по белому «разобраться на месте» и отослал челобитную заведующему отделением Григорию Ивановичу Пократову. Григорий Иванович взял под козырек и разобрался.
Когда в предустановленный свыше академический час дежурная медсестра раскрыла книгу и начала читать, а черепно-мозговые приготовились со скукой слушать, как «Испуганная лосем, Настенька смотрела на змею», то не сразу сообразили, что в лечебно-литературной команде произошла замена: вместо выбывшего из игры М.М. Пришвина, № 99, в игру вступил Л.И. Брежнев, № 1.