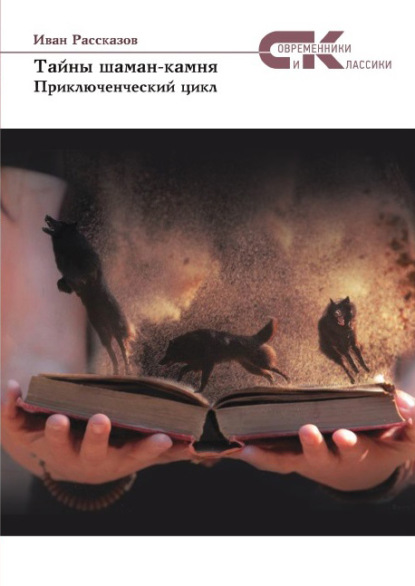Полная версия
Обыкновенная любовь
– А всю что, слабо́?
– Можно и всю! Но кто же тогда будет любить?
– Ладно. Хватит и полжизни!.. – засмеялась она и остановилась.
– Мы что, пришли?.. – заволновался он, не желая расставаться.
– Да, пришли, – с сожалением вздохнула она и как-то слишком уж медленно достала из сумочки ключи.
Они, любуясь друг другом, потеряли счёт времени и не заметили, как оказались на окраине города, на узенькой улочке, рядом с небольшим кирпичным домиком.
– Может, мы ещё чуточку погуляем? – несмело предложил он.
– Ладно, заходи. Мама на даче. – Она открыла дверь и элегантно перешагнула порог.
Сердце его резко подпрыгнуло. Он рывком вскочил в комнату, не помня себя от волнения. Перед его взором стояло только её ослепительно-белое платье в горошек, и ничего более.
Она тотчас обернулась и раскрыла губы для поцелуя. Он целовал её страстно и долго. Она тихонько и радостно вскрикивала и не сопротивлялась.
– Я люблю тебя и хочу быть твоей!.. – пролепетала она обессиленно, когда он угомонился.
Часть 2. Грех
– Мама, это мой жених. Мы любим друг друга, – взволнованно бормотала она вечером и, не ручаясь за поведение вспыльчивой матери, заставшей в своём доме незнакомого мужчину, робко добавила: – Мы распишемся с ним.
Мать нисколько не смутилась и не стала возмущаться. Она устало уронила на пол сумки с овощами и фруктами и сухо приказала ему:
– Отнеси на кухню.
Когда он вернулся, она внимательно осмотрела его и, удовлетворившись увиденным, повелительно сказала:
– После свадьбы жить будете у нас и первые пять лет не станете заводить детей. Поживём для себя. Успеем ещё с пелёнками навозиться да ночных криков наслушаться.
Так и порешили.
Но тот первый день не прошёл бесследно. У неё вскоре начала слегка кружиться голова, появилась вялость, пропал аппетит.
Она скрывала, стесняясь мужа и матери, сколько могла. Но когда её стало подташнивать при виде любой пищи, мать обо всём догадалась и тотчас повела её к врачу, а когда тесты оказались положительными, велела прервать беременность, несмотря на уже весьма солидный срок.
Вся родня тотчас разделилась на два лагеря. Одни были за сохранение жизни, другие – против этого. Все говорили много, с жаром, приводили многочисленные аргументированные примеры и сов сем сбили с толку молодых.
Одни просили оставить всё как есть, ссылаясь на Божье провидение, а другие требовали закончить учёбу, утвердиться в обществе, создать материальную базу, а потом уже думать о наследниках – таких было большинство. Их абсолютно не волновало, что маленький человечек со своими определёнными внешними признаками и темпераментом уже существует.
Он и она, несмотря на юность и неопытность, отчётливо сознавали, что их заставляют поступить неправильно – не по-божески и даже не по закону природы. Но пойти против авторитетного и активного большинства, от которого они зависели морально и материально, не осмелились.
* * *Малыш всегда спал спокойно. Ему всегда снился один и тот же хороший сон. Но в тот день, когда все много кричали, а мама даже плакала, он спал беспокойно. Он каждой клеточкой своего маленького тельца чувствовал, что с ней творится что-то неладное. И ему стали сниться нехорошие сны: он видел, как что-то чёрное надвигается на него. Он в испуге дёргал ручками и ножками, кричал, просил помощи, но его никто не слышал…
Она, с тех пор как раскрылась тайна, спала мало и тревожно. А в последнюю ночь ей было совсем плохо: вероятно, передалась тревога малыша. Она ворочалась, стонала и всю ночь лицезрела не то во сне, не то наяву, не то вовсе в призрачном видении розовое шелковистое тельце малыша. Его пухленькие ручонки тянулись к ней. Он силился сказать что-то для него весьма важное, но вместо этого всё время выходило забавно-певучее «у-у-у… а-а-а…». И его светлое личико расплывалось от этого непроизвольного конфуза в лучезарной улыбке. Она тоже смеялась и тянула к нему руки… Но под утро в её видения стремительно ворвался какой-то тёмный острозубый ужасный силуэт с железными когтями и поглотил малыша своей сатанинской массой… Она не задумываясь с нечеловечески пронзительным криком коршуном накинулась на этот чёрный силуэт и стала отчаянно рвать его ногтями и зубами. Она его рвала, рвала и рвала… до самого утра. Но так и не добралась до малыша.
* * *В больницу её, безвольную и измученную ночным кошмаром, сопровождал утром целый эскорт: мать, свекровь и две тётушки. А он остался дома и страдал: он боялся за неё, ненавидел за слабость духа себя и испытывал стыд за их общий грех. Он то и дело порывался вслед, чтобы остановить это нелепое убийство, но тут же в безволии возвращался, судорожно обхватывал голову руками и падал на диван. А через мгновение опять вскакивал… Наконец, не вынеся мук сомнения, бросился за советом к богобоязненным, добродушным соседям.
– На, почитай! И если не поздно, спасай! – сунул ему сосед в руки толстую газету вместо ответа и ткнул пальцем, где надо прочитать. – Там Макаренко пересказывает сценарий фильма «Безмолвный крик»[2]. Я-то думал, ты в этом детоубийстве со всеми заодно, поэтому раньше не предлагал тебе эту статью.
– Не Макаренко, а Макаренков, – взяв газету, буркнул он машинально.
– Да какая разница! Наверное, тоже педагог.
– И что он пишет?
– Про то, как ироды, такие как вы, неродившихся детей убивают! – не вытерпев, истерично выкрикнула жена соседа, обычно молчаливая.
– Да ты читай! Скорее! – торопил сосед.
Он попытался сосредоточиться, но перед раздражёнными от бессонницы глазами буквы прыгали и расплывались.
– Погоди, глубоко вздохни и читай здесь, – черкнул сосед по газете маркером, видя, что он запутался в первых строчках.
Он глубоко вздохнул, и его слезящиеся глаза стали быстро вырывать из текста отдельные фразы:
«…На экране появляется картинка… голова ребёнка… тельце… Маленькая ручка тянется ко рту… Различаются не только ротик, глазик и носик… но даже… что головка заполнена мозгом… Внизу… крохотные ножки… Сердечко бьётся ровно… Время от времени малыш слегка меняет своё положение. Все его движения спокойны, он ощущает уют и безопасность.
Вдруг рядом… появляется зловещая тень… Она медленно, но неумолимо приближается к малышу. Он ощущает опасность… пытается отодвинуться, его активные… беспомощные движения выдают панический страх.
Вакуум-кюретка[3] нащупывает ребёнка… Его маленький ротик раскрывается в безмолвном крике. В последнем порыве отчаяния он трогательно и беззащитно отодвигается в сторону…
Сердце бьётся быстрее и быстрее… Плодный пузырь прорывается, утробные воды, составляющие тёплый уютный мирок этого маленького человечка, быстро исчезают. Кюретка безжалостным драконом впивается в тельце ребёнка и буквально отрывает его от крохотной головки.
Теперь всё…
Секунду спустя врач вводит абортцанг. Он крепко обхватывает оставшуюся в матке головку. Слабые, ещё не сформировавшиеся косточки маленького черепа раздавливаются и расплющиваются в одно мгновение.
То, что ещё несколько минут назад было головкой, удаляется. Теперь на экране видны только сгустки тканей и осколки – всё, что осталось от крошечного и беспомощного человеческого существа…»
– Боже мой! – уронил он на пол газету. – Что же теперь делать?
– Спасать! – в сердцах закричала соседка. – И как только вы, окаянные, решились на этот жуткий поступок?! Вы же с такой страстью и любовью сошлись!..
– Поздно, – нечленораздельно пробормотал он. – Не успею.
– Не дури! – встряхнул его за плечи сосед. – Успеешь!
– Да! Успею! – уже твёрдо и осознанно сказал он и выскочил на улицу.
– Не успеет, – с сомнением покачал головой сосед. – Но что-то же делать надо.
– Успеет! – решительно возразила ему жена, взяла икону Божьей Матери и стала торопливо шептать молитву.
– Вряд ли. Но я тоже, пожалуй, помолюсь за них…
Послесловие в вопросах
1. Почему любовь, зарождающая новую жизнь, иногда сама отбирает её?
2. Почему это вообще возможно физически?
3. Почему могучая и мудрая природа и всеобъемлющий разум допустили это?
Девятый угол
Маленькая повесть. Из цикла «Донские рассказы»[4]
Предисловие
После долгих лет разлуки я снова захотел побывать в любимом городе своего детства – городе Шахты. Там, по моему тогдашнему убеждению, было самое вкусное в мире мороженое и самые красивые в мире трамваи и кинотеатры.
По воле случая в те несносно жаркие августовские дни мне довелось познакомиться с интересной рассказчицей – Клавдией Гуровой. Эта невысокая, кругленькая, подвижная как ртуть пожилая женщина была неутомимой говоруньей.
– Это тот самый, что «Маманю» написал? – с живостью спросила она, едва только родственники представили меня ей.
– Вы читали мой рассказ? – удивился я.
– И главы из романа читала, что были напечатаны в той же газете. По-нашенски написал, по-простому, – похвалила она меня. – Да и не сбрехал нигде. У меня ведь в родне, с материнской стороны, похожая оказия была: один дядя за белых воевал, а другой – за красных.
Не желая упускать возможность, я тут же попросил свою собеседницу рассказать мне эту интригующую историю.
– Ладно, расскажу, как пообедаем, – охотно согласилась Клавдия.
Трапеза мне показалась нескончаемо длинной. Едва дождавшись её конца, я тотчас подсел поближе к бабе Клаве и стал обдумывать, как бы поделикатнее возобновить наш разговор.
– Не суетись, милок, – опередила она меня. – Не позабыла я про своё обещание. Только, боюсь, не всем мои побасёнки будут интересны. А докучать людям я не люблю. Пойдём ко мне, я живу через дорогу. Там, в тишине и прохладе, я и расскажу, что знаю. Выдумывать не стану.
Я с готовностью вскочил с места и первым направился к двери.
– Погоди, а тетрадку взял? – охладила мой пыл баба Клава. – Записывать-то куда станешь? На ладонь, что ли?
Я хотел было сослаться на хорошую память, но мельком поймал её непреклонный взгляд и поспешил достать из дипломата записную книжку и авторучку.
1
Домик бабы Клавы с зелёными, сработанными на деревенский манер узорчатыми ставнями, в дневное время наглухо закрытыми, мало чем отличался от соседних приземистых построек, прикрывшихся от жгучего степного солнца густо разросшейся виноградной лозой. Преимущество таких, будто бы вросших в землю, изб перед многоэтажными коробками я почувствовал сразу: сюда почти не проникала уличная духота.
Усадив меня на крохотный старый диванчик, который, вероятно, был моим ровесником, баба Клава тоже присела рядом и без всяких предисловий, – лишь выпростав из-под белой ситцевой кофточки, сшитой на старинный манер, с рюшечками и вытачками, шёлковую золотистую нить с крестиком, видимо, для того чтобы я положился на искренность её слов, – начала повествование:
– Так вот, было это в Гражданскую, кажись, в девятнадцатом году. Дядя мой, Фёдор, воевавший дотоле за красных, взял да и перешёл ни с того ни с сего к белым. И надо же было такому случиться: в первом же бою столкнулся лицом к лицу с братом своим Павлом, оставшимся у красных. Как начали они шашками звенеть – аж искры полетели во все стороны! Видит Павел, что дело нешуточное, запросто может закончиться братоубийством. Заложил он шашку в ножны и стал просить младшего брата Фёдора вернуться к красным, пока не натворил грехов. А тот ни в какую: «Лучше ты переходи к нам! – орёт. – Не то насмерть зарублю!» И тут Павел, слава богу, вспомнил, что новая власть арестовала из-за политической измены Фёдора жену его – Ксению. Обмяк сразу Фёдор и ради спасения жены – любил он её дюже! – согласился-таки вернуться к красным. И так лихо воевал за них, что даже получил орден. А как с войны пришёл, сразу стал хлопотать за Ксению: её-то к тому времени уже отправили в Сибирь. А в Сибири она, решив, что Фёдор бросил её, согласилась от нужды сожительствовать с каким-то офицериком. Дитя даже родила от него. А тут подоспела амнистия. Не знает бабёнка, что и делать… «Подкинь ты его кому-нибудь – и делу конец», – стали советовать подруги по несчастью.
Думала она, думала, слёзы все выплакала, а решилась-таки подкинуть родное дитя чужим людям. До смерти захотела домой, к законному мужу. Завернула она сыночка своего полуторамесячного потеплее в разное тряпьё и отнесла в посёлок – в самый справный двор. А когда назад возвращалась, кошку повстречала – она, бедняжка, чуть ноги волоча от голода, принесла из лесу к человеческому жилью котёночка. Дверь царапает и страсть как жалостно мяукает – просит, стало быть, чтобы обогрели её дитёночка. И тут у Ксении будто оборвалось всё внутри, залилась она слезами и помчалась назад что есть духу. Слава богу, недалеко отошла, хозяева не успели забрать её сыночка со своего порога. «Будь что будет, – решила она, – а дитя не оставлю! С ним поеду!»
Встречать её приехали на паре лошадей свёкор с мужем. Целый день крутились они на платформе, даже не зашли ни разу погреться на станцию. Боялись пропустить поезд. А он, как назло, опоздал: аж под самый вечер прибыл в Миллерово. Вышла Ксения из вагона, увидала мужа со свёкром и остолбенела от страха. А они её, с ребёночком на руках, не заметили даже. Раз да другой проскочили мимо. Опознали только после того, как все пассажиры разошлись с платформы. Свёкор, ни слова не говоря, взял у неё с рук дитя и прижал к себе. А муж на радостях её подхватил на руки и понёс в сани. Всю дорогу обнимал он её и целовал, ни разу не спросив про ребёнка. Свёкор тоже ни единым словом не обмолвился – откуда, мол, и чей? Знай себе баюкает его да лошадей постёгивает кнутом. А когда на рассвете домой приехали, он первым вошёл в хату и сказал: «Того, кто на Ксению плохое слово скажет или насчёт ребёнка станет интересоваться, прогоню со двора!» С тех пор никто и ничем не попрекал её в семье. Со временем у Фёдора с Ксенией ещё трое детей народилось, но первенец, сибирячок Илю шечка, остался любимчиком. Сердешный был дюже, никому ни в чём не откажет, каждого уважит чем может. А уж отца-то любил!.. Страсть как! В тридцать седьмом от смерти даже спас его. Фёдор ремонтировал колхозный амбар и в щелях да под половицами насобирал полчувала[5] подпорченного зерна и отнёс домой. А тут, как на грех, председатель сельсовета приехал проверять по доносу соседний двор вместе с милицией, и заодно заглянули к Фёдору. Что полагалось за саботаж человеку, метавшемуся от белых к красным, сам понимаешь… Но Илюша – он работал у отца в строительной бригаде помощником – взял всё на себя. Сказал, что отец велел ему отнести зерно в колхозную клуню, а он посамовольничал и тайно высыпал в свой закром. Фёдору за такое дело, конечно, каюк был бы, а Илюшку всего-то на пять лет сослали в Сибирь.
– Везучий этот Фёдор, – заметил я не без иронии. – Наверно, дожил до ста лет?
– Ничего подобного, офицер в войну застрелил из нагана[6].
– За что?
– За то, что проведал без разрешения семью. Он воевал как раз в той самой части, какая в сорок втором году гнала из-под Сталинграда румын прямо на его родной хутор Ольховый. И как ему было не заглянуть домой? Только надо было с разрешения, а он побоялся, что не получит такового: дюже уж сумасбродный был у него командир. На свой страх и риск забежал на минутку домой, проведал жену и детей и кинулся следом за своими. Догнал он их всего лишь через три километра, под хутором Вяжа. Однако командир всё равно осерчал, несмотря ни на какие объяснения, и обвинил его в дезертирстве.
– Неужели отправил в штрафбат? – изумился я. – Совсем бессердечный человек!
– Хуже! Застрелил острастки ради на глазах у других солдат. Ксении тоже досталось. Её как жену врага народа опять отправили в Сибирь. Но хоть там ей повезло: попала в то самое место, где и сын её отбывал наказание. Илюшка к тому времени своё почти отбыл, но мать одну оставлять не захотел, вместе вернулись домой. Это было уже после войны. Такая вот, брат ты мой, печальная история.
– Действительно печальная история, – согласился я. – Только вы её рассказали очень красноречиво, как истинная казачка.
– Истинная я только по духу, – возразила моя собеседница, – а по крови – только наполовину.
– Разве? – засомневался я.
– Погоди, и про это расскажу, – успокоила меня баба Клава и, скрестив руки на груди, призадумалась.
2
– Да, я не чистокровная казачка, – встрепенулась она мгновение спустя. – Мать была из потомственных казаков – это верно, а отец – из семьи иногородних[7]. Дедушка мой, Андрей Андреевич Гуров, был крепостным плотником у какого-то богатого помещика в Воронежской губернии. А бабушка Тамара была дочерью гувернантки того самого помещика. И, надо сказать, слыла в девичестве превеликой красавицей. Барин любил звать её к себе по вечерам – почитать книгу или спеть песню. Он тоже, хоть и не молодой уже, а ничего из себя был – статный и весёлый мужчина. Всегда старался удивить чем-нибудь бабушку. И так промеж них зародилась любовь, о которой вскорости стали поговаривать все дворовые, даже до самой барыни дошли слухи. И помещик тот, чтобы не усугублять дело, отправил бабушку учиться в Петербург – там им легче было встречаться тайно. А когда она закончила учёбу и возвратилась в поместье, барин определил её вместо умершей к тому времени прабабушки гувернанткой к своим троим детям. И всё у них было бы хорошо, да бабушка забеременела вскоре. А барин, желая скрыть позор, насильно выдал её замуж за своего самого лучшего работника. Дал им обоим скрепя сердце вольную, снабдил лошадью, повозкой, деньгами и велел немедленно убираться в казачьи края. Целый месяц колесили дедушка с бабушкой по степи, пока нашли людей – казаков Кубановых, согласившихся приютить их на своей земле, в самых верховьях речки Ольховой. Определившись, дедушка отстроил на деньги, доставшиеся бабушке от барина в приданое, мельницу и хатёнку-полуземлянку. Казаки запрещали строить большие дома иногородним. Так вот и поселились они в хуторе Ольховом и нарожали на казачьей земле десять детей, не считая дочери от помещика, хоть и не любили друг дружку. Дедушка всю жизнь жалел, что не ослушался барина. Крепостное право-то отменили всего через год после того, как они с бабушкой уехали на Дон. Он даже порывался бросить всё и вернуться к своей любимой невесте, оставшейся в поместье. Но, как узнал, что её выдали замуж, остепенился, построил вторую мельницу и стал копить деньги как скаженный. Ассигнации аккуратно связывал ленточками в пачки и совал в кожаный мешок, а золото складывал в чугунок и ночью закапывал в землю. Всё надеялся построить собственную усадьбу, да ничего не вышло: вначале казаки мешали, потом – революция, коллективизация. И когда его при раскулачивании схватило на девяносто пятом году жизни сердце, только и успел сказать: «Бабка, золото в земле, на девятом углу!..» Бабушка тоже долго прожила – сто пять годков, но золота не нашла. Никто из нас так и не сообразил, про какой такой девятый угол он завёл речь. Деньги, правда, нашлись в сорок шестом году, когда мы съезжали со старого двора и за ненадобностью снесли коровник. В нём-то, под камышовой крышей, и был кожаный мешок со старыми ассигнациями. Однако проку нам от них было мало. Печь за неимением бумаги долгое время растапливали, да и только. А что золото не сыскали – это к лучшему. Оно дедушке счастья не принесло, и нам от него одни неудобства от властей были бы, – философски закончила свой рассказ баба Клава и тут же как ни в чём не бывало проворно соскочила с диванчика и потащила меня за руку в сад. В саду она снабдила меня грушами, жердёлами[8], виноградом и, провожая за калитку, кротко, к моему удивлению, промолвила:
– А я ведь могу вспомнить к следующему лету ещё что-нибудь интересное про наши края. Ты уж наведывайся ко мне.
– Приеду. Обязательно приеду, – пообещал я.
– А будешь у Мамани на могилке, то бишь у Петра Некрасова, про которого ты рассказ написал, – передай ему привет. Я тоже благодарна, что он не выдал нас уполномоченному, когда мы в коллективизацию воровали семечки.
– Вы тоже там были? – всё больше и больше удивлялся я. – Прямо на поле?
– Была. И на току была, и окопы рыла, и на коровах землю пахала, и сама впрягалась в плуг вместо коня. Как все бабы в то время, так и я. Всё правильно ты прописал в своём романе[9].
Я жутко расчувствовался, неосторожно крепко прижал к себе кульки, сминая фрукты, и ещё раз пообещал бабе Клаве навещать её, когда судьба занесёт меня в пределы родной Донщины.
Любовь до Дона довела
Отрывки из фольклорно-исторической повести «Качкины»[10]
Часть 1. Приднепровье. Начало XIX века
– Софійка, Софійка! – окликнул через плетень любимую дивчину молодой красавец запорожец – косая сажень в плечах.
Софийка, мывшая на завалинке добротной, свежо побелённой хаты горшок, вспыхнула румянцем, ловко подобрала края юбки и сломя голову кинулась на зов любимого. Не было в запорожских хуторах краше дивчины. Кто только к ней не сватался! Софийкин батько сразу уразумел выгоду и решил: отдаст замуж свою красавицу в самую зажиточную семью. Да только сердце Софьи с детства было отдано соседскому казачку Матвейке.
– Що коханий? Що? – упала грудью на плетень запыхавшаяся Софийка.
– Як твій батько? – ухватил Матвей за руки любимую. – Чи прийме наших сватів?
– Ні. Чекає багатих. У неділю приїдуть?
– Бігти треба, Софійка! Бігти!
– А може, твій батько домовиться з моїм?
– Софія! Софія! – в горячке выскочил из хаты с плёткой в руке могучий вислоусый запорожец. – Йди в хату! А то!..
– Як тут домовишся! – вспыхнул Матвей. – Мій теж знайшов для мене іншу. Приходь вночі до криниці.
* * *Светало. Матвей издёргался, извёлся весь в ожидании любимой. И решил, что она уже не придёт, и надумал покинуть родные края один. Не было ему тут места. Не мог он равнодушно смотреть, как его любимую отдадут за другого и она у него на глазах будет рожать этому другому детей. Никак не мог. В жилах вскипала бурная, горячая кровь запорожского казака. Запросто мог порешить и соперника, и самого себя, да и всех причастных к этой несправедливости людей и накликать беду на весь род.
– Но-о! – вздёрнул вожжами Матвей, и кони побежали лёгкой рысцой. – Но-о! – взмахнул он кнутом, желая пустить их вскачь, и услышал вдруг позади себя глухой звук. Он резко обернулся и увидел в пустой бричке полный мешок с вещами и крепко державшуюся за борт обеими руками разгорячённую Софию.
– Софушка! Ладушка! – вскричал вне себя от радости Матвей, на ходу выпрыгнул из брички и подхватил на руки любимую.
– Куди ж ти розігнався без ладки своєї? – улыбнулась счастливая Софийка.
– З тобою хоч на край світу!
– Так не годится, – здраво рассудила София.
– На Дон, Софушка. На Дон, кохана! З Дону видачі немає!
Часть 2. Верхний Дон. Начало XIX века
Матвей и София ехали осторожно, в основном ночью, чтобы избежать погони. К концу второй недели пути они оказались на территории Донецкого округа Войска Донского.
Миновав на рассвете хутор Сетраки Мигулинской станицы, они остановились на отдых на опушке Липяговского леса. София достала из дорожного узла остатки пищи – совсем маленький кусочек слегка прокопчённого сальца и ломтик чёрствого хлеба. Она разделила это вкусно пахнущее яство на две равные частички и устало взглянула на любимого:
– Це все що є.
– Значить, поживемо в цих краях, – решительно заявил Матвей и обнял любимую. – Козаки не видадуть нас.
Лошади неожиданно насторожили уши и, широко раздувая ноздри, стали бить копытами землю. Мгновение спустя из глубины леса раздался заунывный волчий вой, и кони бросились с места без команды. Расторопный Матвей успел подхватить едва не сорвавшиеся на землю вожжи и умело вывел насмерть перепуганных лошадей на ровную ковыльную степь, чудом избежав края глубокого ярка, в который они ринулись в неистовстве.
Волчья стая позади брички разделилась на две части и стала охватывать задыхающихся от быстрого бега лошадей с двух сторон. Матвей выхватил из-за голенища хромового сапога нож и уже приготовился к смертельной схватке, когда услышал впереди пронзительный свист.
Наперерез волчьей стае со свистом и гиком неслись на резвых откормленных конях три молодых казака с нагайками в руках. Один из них приотстал и выстрелил в стаю из ружья.
– Кто такие? По какому случаю в наших местах? – спросили молодые казаки, поравнявшись с бричкой.
Открытые, добрые лица казаков Матвею понравились, и он поведал им свою интригующую историю, не утаивая подробностей.
– А мы Хоршевы. Я Юрий, – сказал казак, что постарше, – а это мои братья Петро и Николай. Мы внуки атамана хутора Ольхового Михаила Хоршева. Его тут все зовут дед Хороший.
– Это мы пасём наших коней, – с гордостью кивнул Николай на большой табун, рассыпавшийся по балке.