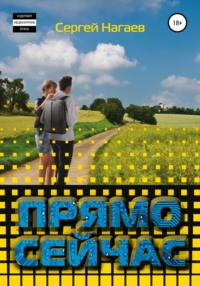Полная версия
Владимир Ост
Скоро на его пути попался большой бетонный дот, каких в окрестностях Чойбалсана было немало. Некоторые из приятелей Вовы говорили, что доты остались еще со времен боев при Халхин‑Голе. Другие утверждали, что их понастроили не очень давно, чтобы обороняться от китайцев, если те решат «захапать нашу Монголию». Отец, офицер советской мотострелковой части, расквартированной вблизи Чойбалсана, в этот вопрос ясности тоже не внес, поскольку в момент, когда Вова спросил его об этом, пребывал в плохом расположении духа и пробурчал в ответ что-то вроде «Стоят себе и стоят, никому не мешают».
Дождь по-прежнему не начинался, но Вова в дот все равно зашел, из любопытства.
Внутри было сыро и сумрачно. Свет проникал сюда только из находящегося под самым потолком прямоугольного огневого окна да еще из входного проема.
Освоившись в полумраке, Вова обнаружил на полу несколько консервных банок и россыпь гильз от крупнокалиберного пулемета. Гильзы, как и банки, оказались безнадежно ржавыми. Он наступил ногой на одну из них, и гильза с хрустом смялась, Вова даже не стал за ней нагибаться.
Потом он аккуратно вложил цветок ириса в нагрудный карман и полез по бетонным ступеням к окну. Ступеней было всего четыре, однако они были столь высокими, что Вове пришлось не идти наверх, а карабкаться. Взобравшись на последнюю, особенно крутую ступень, Вова посмотрел в окошко наружу. По пустой степи скакал гонимый ветром высохший куст перекати-поля. Вова оперся локтями о бетон подоконника, сложил руки, будто сжимает в них пулемет, и сам себе скомандовал:
– По врагам советской родины… Огонь!
В глухом помещении раздалось азартное «ту-ду-дуф, ту-ду-дуф». Вова поворачивался в окне, держа несущийся куст на воображаемом прицеле.
Но одинокий куст-шар быстро скрылся из вида.
Вова влез на подоконник, затем, выпустив ноги наружу, перевернулся на живот, повис на стене, держась пальцами за край окна, спрыгнул на землю и пошел дальше.
Ветер дул с правого бока и равномерно усиливался. Небо то совершенно темнело, то неожиданно местами прояснялось. Жаворонки, если и взлетали, то лишь потому, что, завидев приближение маленького человека, старались отвлечь его внимание от гнезд. Однако их тревога была лишней: птичьи тайны в данный момент мальчика не интересовали.
Прошагав с полчаса, Вова увидел монгольское кладбище. Никак не огороженное, оно представляло собой беспорядочное собрание могил без каких-либо надгробий. Когда он подошел ближе, то оказалось, что многие гробы не закопаны, а просто положены на поверхность земли и присыпаны сверху грунтом. Причем с некоторых гробов ветры присыпку давно успели сдуть.
Вова вспомнил беседу своей матери с соседкой, когда женщины, сидя на кухне Осташовых, почему-то заговорили на траурные темы и начали обсуждать монгольские похоронные обычаи. Из того разговора, среди прочего, Вова узнал, что раньше монголы не закапывали умерших, и даже в гробы их не клали, а просто оставляли лежать в степи. В памяти Вовы сам собой воспроизвелся конец того разговора. «Ужас какой-то эти монголы, – говорила, прихлебывая из чашки чай, соседка. – Люди, вроде, добрые, а родственников бросают на съедение животным, как дикари». «Как же они могут хоронить, если им религия не позволяет землю копать? – отвечала мать. – Из-за религии они только коней да верблюдов пасут, не сажают ничего, ни картошки своей не имеют, ни хлеба. Слушай, я в магазине сейчас была, хлеб дают прямо горячий». – «А, хорошо. Надо бы сходить. Ой, заговорились мы с тобой про этих косоглазых. Ну их! Наши теперь мало-помалу приучают их к культуре, так что никуда они не денутся, станут нормальной страной».
Побродив между могил, Вова заметил, что некоторые гробы лежат со слегка сдвинутыми крышками; внутри виднелись останки усопших. Вова забеспокоился: если какие-нибудь монголы явятся сейчас навестить могилы, то они наверняка решат, что крышки сдвинул именно он и, понятное дело, сильно разозлятся. Он с опаской огляделся по сторонам, но вокруг не было ни души.
Между тем Вова с гордостью отметил про себя, что самих скелетов он не испугался. Зрелище, конечно, взволновало его, но не вызвало ни малейшего страха. Для Вовы лежащие в гробах усохшие человеческие останки были просто занятными предметами, которые он увидел впервые в жизни и которые поэтому достойны любопытства. Видом захоронений он остался доволен: осматривать их было даже интереснее, чем он предполагал.
Впрочем, кладбище было маленьким, и вскоре Вова дошел до его противоположного края. Здесь он увидел ровный ряд из нескольких свежеприготовленных, еще пустых могил, которые смотрелись среди остальных захоронений совершенно инородными. Их ровные стенки были сделаны из бетона.
Подойдя к кромке одной из этих могил, он заглянул вглубь (яма действительно была сделана на совесть глубокой) и увидел дно, которое тоже было бетонным. В могиле скопилось почти по колено дождевой воды. Вова догадался, что эти добротные бетонные пеналы сделали не монголы. «Это наши им приготовили, чтобы Монголия стала нормальной страной», – подумал он, снова вспомнив слова подруги матери.
Вова прошел вдоль всего бетонного ряда – во всех могилах стояла вода. И это было досадно, потому что, если бы могилы были сухими, то было бы здорово спрыгнуть вниз, на дно, а потом вылезти наружу. Впрочем, сообразил Вова, от этой забавы пришлось бы отказаться в любом случае: могилы были слишком глубокими, и выбраться оттуда у него вряд ли бы получилось.
Вова попробовал представить себе, как, собственно, можно хоронить людей в этих бетонных ямах. Выходило, что гробы придется опускать на воду, и они там будут плавать, как его игрушечные лодки в ванной. Впрочем, об этом Вова долго не думал, решив, что так, наверно, надо; взрослым виднее, как правильно устраивать могилы.
И он побрел через кладбище назад, на этот раз оглядывая все вокруг более внимательно.
На слегка сдвинутой крышке одного из гробов Вова увидел несколько монет. Это была настоящая удача! Он с азартом собрал деньги и принялся пересчитывать их. Сумма, по мнению Вовы, набралась приличная – девяносто пять мунгов, почти тугрик. Некоторые из монет имели аккуратно высверленные дырочки посредине, чтобы держать на шнурке, потому что у многих монголов не было кошельков. Он с радостью спрятал добычу в карман брюк и даже рассмеялся вслух, лихорадочно соображая, на шоколадку какого размера в военторге хватит этих денег.
Довольный, он невзначай снова взглянул на гроб. В широкой щели под сдвинутой крышкой можно было увидеть голые кости предплечья и кисти руки. Вова осмотрелся по сторонам и, убедившись, что степь вокруг по-прежнему пуста, сдвинул крышку еще немного. Затем еще. Затем еще, и тогда крышка окончательно сползла и завалилась набок.
Теперь скелет стал виден полностью. Череп, да и все кости, лишь кое-где покрытые ветхими кусочками сгнившей одежды, были совершенно чистыми, и только грудная клетка оказалась наполненной чем-то, напоминавшим по цвету и по фактуре вату – это было похоже на кокон огромной бабочки. Получалось, что под ребрами еще оставалась не вполне истлевшая плоть.
Пытаясь лучше рассмотреть череп, Вова чуть наклонился над гробом и увидел на дне его еще несколько монет. Он догадался, что их, скорее всего, положили родственники скончавшегося, чтобы умершему было хорошо на том свете. Вова не верил в загробную жизнь. Его родители были атеистами, да и учителя в школе, если об этом заходила речь, тоже с уверенностью говорили: ни загробного мира, ни богов, ни чертей нет. Верить в такую чушь, наставляли взрослые, могут только темные, глупые люди.
При виде свидетельства монгольского суеверия, Вова хмыкнул с чувством превосходства. Ему очень хотелось взять себе лежащие на дне гроба мунги (раз уж скелету они не нужны), однако тут он подумал, что родственники умершего, придя на обворованную могилу, пожалуй, расстроятся. Вове стало жаль этих неизвестных ему, пусть и отсталых, людей. Постояв немного, он вздохнул и не стал забирать деньги. Более того, он обошел могилу, надвинул деревянную крышку на место, вынул из кармана мунги, которые он мысленно уже потратил на шоколад, и, злясь на свою доброту, со стуком положил деньги обратно.
Увлекшись обследованием кладбища, Вова перестал обращать внимание на погоду и не заметил, как тучи окончательно почернели и слились в единую мрачную плоскость, низко нависшую над плоскостью степи. О надвигающейся грозе он вспомнил, только когда ветер резко усилился, сверкнула молния и на землю полетели первые, редкие, но крупные капли. Сразу стало понятно, что сухим ему не только до дома, но и до пулеметного дота не добежать.
Но делать нечего, Вова, не разбирая пути, что есть духу припустился в сторону города.
Через несколько минут, однако, дождь неожиданно прекратился. Вова еще некоторое время по инерции бежал, но, споткнувшись об очередную кучку свежевыкопанной земли рядом с мышиной норой и чуть не растянувшись на влажной траве, остановился отдышаться. И тут прямо у своих ног он увидел то, что, по утверждению его приятеля Жени, случалось только однажды в сто лет – он увидел спрятавшийся в траве ирис. В шаге от первого рос еще один цветок, а дальше еще и еще.
– Ну, Макака, я тебе покажу африканское растение, – вслух сказал Вова и бросился собирать ирисы.
Набрав букетик, он поднялся с корточек и осмотрелся. Кладбища уже видно не было. Вову окружало пустое бескрайнее пространство, смыкавшееся вдали с черно-сизым небом. Над головой снова загрохотал гром. Ветер вновь стал порывистым и злым.
Вову охватила тревога: он понял, что, крутясь на корточках и собирая цветы, потерял ориентировку. Вот-вот должен был начаться настоящий ливень, а он стоял в растерянности и не знал, в какую сторону двигаться. Он посмотрел на собранный им букет, вынул из нагрудного кармана изрядно помявшийся цветок, который достался ему в обмен на камушек, без сожаления выбросил его и положил в карман свежие ирисы.
Но где же находится город, куда бежать? Вова постарался успокоиться и стал тщательно осматривать пятачок, где собирал ирисы, пытаясь восстановить в памяти извилистый маршрут, проделанный им на корточках. После нескольких минут раздумий Вове показалось, что направление к дому найдено, и он понесся вперед.
Ливень, который дал ему значительную фору, не в силах больше сдерживаться, грянул. Вова сразу насквозь промок.
Бежать становилось все труднее. Причиной тому была не столько липнущая к телу одежда и раскисший дерн, сколько неумолимо нарастающая уверенность в том, что он мчится не туда, куда надо.
Через некоторое время, которое показалось вечностью, совершенно обессилевший Вова увидел за стеной дождя серый дот. Однако это было совсем не то огневое укрепление, которое попалось ему на пути к монгольскому кладбищу. Он не выдержал и заплакал.
Всхлипывая, Вова забрался в тесное помещение маленького дота, сел на валявшийся в углу полуразбитый деревянный ящик для патронов, выкрашенный в цвет хаки, затем прилег на него и под звуки дождя незаметно для себя уснул.
Когда он проснулся, было уже совсем темно.
Из дота Вова вышел в тоске. Было тошно даже подумать о том, как влетит ему от родителей, которые наверняка уже сходят с ума и ищут его по всей округе. Но это было не главное. Подлость ситуации состояла в другом: чтобы получить нагоняй, сопровождаемый серией тяжких подзатыльников, а возможно, и ударами куда ни попадя ремнем, ему еще предстояло хорошенько потрудиться – надо было как-то найти дорогу и дойти до дома. И только в эту минуту ему наконец стало предельно ясно, что он действительно потерялся. Невдалеке послышался лай пробегавших мимо огромных диких собак, который лишь добавил страху. Он замер и дождался, пока стая удалится.
Ничто, ничто не могло подсказать ему верный путь. От холода и отчаяния у него заболел живот, одеревенели ноги, спина, руки.
Однако Вова пересилил себя и решил все-таки попытаться сориентироваться. Он медленно, чтобы не услышали собаки, которые, возможно, были еще где-то рядом, стал обходить дот вокруг, и тут в прогале между двумя ближайшими сопками увидел огонек. Вова не смел верить глазам. Стараясь не топать и не шуршать травой, он поспешил на сопку. И какова же была его радость, когда с ее вершины ему открылся вид на вечерний Чойбалсан. Оказывается, все это время он был не так уж далеко от города! По-прежнему скользящими, бесшумными шагами Вова быстро пошел, почти побежал на огни.
…Риелтор Владимир Осташов открыл глаза – за тюлевыми занавесками, в кромешной тьме виднелись редкие светящиеся окна соседних домов. Он приподнялся в кровати. Насыщенный событиями первый день работы измотал его, но заснуть – видимо, из-за нервного перевозбуждения – никак не удавалось.
Он медленно спустил ноги на пол, так же медленно сел и, опершись локтями о колена, потер глаза, чтобы вернуться в реальность сквозь освеженные памятью картинки детства. Как далека теперь та весенняя степь! Когда все это было? Лет тринадцать назад. Больше, чем полжизни. Отца, кадрового офицера, тогда командировали в Монголию, и семья на три года поселилась в одном из бревенчатых домиков военного городка на окраине Чойбалсана. А куда делись те нежные ирисы? Кто знает. Сохранился только детский рисунок, на котором выведенные акварелью фиолетовые цветы росли сквозь глазницы лежащего в траве черепа. Да, точно, это был череп с двумя фиолетовыми фонтанчиками, бьющими из глазниц. Как вспомнил Владимир, череп был изображен неуверенным карандашом и выглядел неподобающе весело. Рисунок он нарисовал в ночь после путешествия на монгольское кладбище: по окончании нешуточной трепки отец поставил его в угол и запретил трогаться с места до утра, но когда родители заснули, маленький Вова тихонько вышел из угла, взял карандаши и краски и, усевшись за стол на кухне, как мог поделился с бумагой своими впечатлениями от прошедшего дня.
Владимиру захотелось отыскать в шкафу коробку со своими детскими рисунками и просмотреть их, но было лень копошиться в шифоньере среди ночи. Он встал, нащупал во тьме на тумбочке пачку сигарет, зажигалку, не одеваясь, в трусах, вышел на балкон, закурил.
«Какого черта вдруг вспомнилось это кладбище?» – недоумевал Владимир. В обычной ситуации вопрос был бы риторическим, потому что детские воспоминания всегда наплывали без особых причин. Но только не в этот раз. Осташов быстро сообразил, в чем дело: видимо, на него слишком сильное впечатление произвела фотография скифской мумии, показанная репортером. Владимир вспомнил, как спросил у Василия, что там у скифа на плече наколото, и как тот ответил: «Олень. Рука двигалась – и олень бежал». При чем здесь татуировка? Ни при чем. Дело в самом скифе. Мумия на фото жутко походит на останки, которые Осташов видел в детстве, в тех монгольских гробах. Да, вот что. Скелеты. Смерть…
Надо сказать, в последнее время Владимир вообще стал часто и с какой-то особой серьезностью задумываться о том, что такое смерть, о том, что остается на земле после ухода человека и какой смысл в связи этим имеет его собственная жизнь. Это началось несколько месяцев назад. Ни с того ни с сего он чуть ли не с отчаянием начал ощущать, что его покидает детская, ни на чем не основанная, аксиоматичная уверенность в собственном бессмертии. Ни малейших внешних поводов к тому вроде бы не возникало. Просто Осташов стал вдруг отчетливо понимать, что придет день (и нельзя исключать, что этот день может наступить уже завтра), и он исчезнет. Канет в никуда. И ничего в мире не изменится. На смену очередному утру, осознавал Владимир, как ни в чем не бывало придет полдень, затем настанет вечер, планета будет по-прежнему кружить вокруг Солнца – с одним лишь новым нюансом: в одном из бесчисленных городов на ее поверхности уже не окажется человека, которого зовут Владимир Осташов. Его тело, беспомощное тело превратится в останки и неотвратимо истлеет. Но гораздо раньше, чем это произойдет, – а именно в самый момент смерти – пропадут, словно и не было, улетучатся раз и навсегда его мысли, чувства, ощущения. И некому будет даже подумать эту самую мысль: «Вот меня и не стало». Это будет первая в его жизни (или смерти?) мысль, которой уже некуда прийти.
Конечно, раздумья о смерти не были диковинкой для Владимира, он и раньше осознавал конечность жизни. Впервые пугающие мысли стали приходить на ум еще в детстве, но тогда он чаще думал о смертности родителей, потому что был уверен, что они должны умереть раньше него, так ведь заведено в этом мире. И ему становилось бесконечно жалко их. Иногда ночью, когда не спалось и его одолевали эти страхи, он вставал с кровати, подходил к спящим матери и отцу и тихонько гладил их по волосам. И ему с трудом удавалось сдержать слезы.
Позже, повзрослев, Владимир стал лучше понимать, что никакой очередности в смертности не бывает – и стал страшиться неотвратимого ухода в никуда. Но отчего-то именно сегодня, именно сейчас его понимание собственной бренности стало вдруг бескомпромиссно чистым. И невыносимым.
Осташов прислонился к перилам балкона, глубоко затянулся и, подняв лицо к ночному небу, с силой, словно желая тем самым избавиться от угрюмых дум, выпустил струю дыма гаубично вверх. Густой клубящийся куст, выросший над ним в безветренном воздухе, несколько секунд постоял на месте, а затем медленно развеялся, и Владимиру вновь открылся вид на звездное небо. Оптимизма эта картина не добавила. Бесконечность космической пропасти с ее неизмеримыми расстояниями и временами слишком наглядно иллюстрировала ничтожность человеческого существования.
В голове Осташова снова всплыл образ скифской мумии. Две с лишним тысячи лет назад, с унынием думал Владимир, этот парень носился на лошади по степям, охотился, воевал, кого-то любил, кого-то ненавидел, строил планы, красовался перед девчонками, татушку (наверно, модную по тем временам) себе на плече сделал, в общем – жил. А теперь осталось только засохшее тело. И это еще чудо, что оно сохранилось. С тех пор, как этот скиф умер, сотни миллионов людей появились на Земле и исчезли, и от них не осталось вообще ничего – даже нескольких связанных между собой молекул.
А ведь и его, Осташова, уже сегодня могло бы на этом свете и не быть. Дорожная катастрофа, финка в случайной драке, кирпич с крыши, в конце концов, – да мало ли причин – и всё, его нет. В принципе, подумал Владимир, можно считать себя несуществующим, начиная уже со следующей секунды, вот прямо сейчас. Какая разница для этих звезд в вышине, когда именно он умрет? Что секунда, что целый век – для вселенной без разницы. Не хватит никакой фантазии даже представить себе, насколько мизерное и жалкое значение для всего мироздания имеет его жизнь.
Как ни странно, от этой мысли ему неожиданно стало удивительно легко. Потому что вместе с ничтожностью жизни стали казаться бесконечно мелкими и связанные с ней переживания, заботы, страхи. Осташов вспомнил фирму недвижимости «Граунд+», вспомнил, с каким трепетом он шел на собеседование к гендиректору Букореву, и даже вслух – впрочем, как-то растерянно – рассмеялся. Какая чушь! Какая мелкая, мышиная возня!
«Да, можно считать, что меня уже нет, – подумал Владимир. – Некоторые из моих школьных знакомых уже умерли, и я бы мог. Но я все-таки живу. Значит, можно считать, что моя жизнь – это уже вторая жизнь, и она совсем не связана с первой. Это просто такой подарок – вторая жизнь. И делай в ней все что хочешь!» Осташов при этой мысли как бы воспарил над собой. Увидел собственную персону со стороны. И что ему особенно понравилось, почувствовал себя невероятно обновленным и всесильным. Это было доселе неизвестное ему ощущение. Оказывается, можно вот так, без всякого эпического повода, начать жить иначе, чем привык. Осташов почувствовал, что может ставить перед собой любые, самые смелые и грандиозные цели, и, главное, абсолютно никто не в состоянии помешать ему в их достижении. Было ощущение, что он, как герой сказки, вдруг узнал волшебное слово, которое открыло ему пещеру с несметными сокровищами. «Сезам» сработал – черпай золото ведром и трать направо и налево.
Оставалось только наметить, чего именно ему хотелось бы добиться. Чего? Да всего, чего угодно!
По некотором размышлении, однако, выяснилось, что с налета придумать по-настоящему достойные задачи не очень-то получается. Возникла проблема: на что конкретно израсходовать нежданно свалившееся на него богатство? К чему приложить свои феноменальные силы?
Владимир закурил вторую сигарету. Действительно, чего ему хочется больше всего? Денег? Деньги – это, конечно, хорошо. Но что такое деньги, по космическим масштабам? Нет, это слишком мелко. Может быть, стать наконец знаменитым художником? Взять, и прямо с утра написать маслом какую-нибудь картину. Неважно какую, главное – гениальную. Но уже в момент появления этой идеи он понял, что ее придется оставить. Около полугода назад он прекратил рисовать именно потому, что стало очевидно: он не знает, какие картины хочет писать. У него хорошо получались только виды старой Москвы. Улочки, подворотни, дворики, тупики. И никогда – люди. То есть он умел похоже и правильно – не придерешься – изображать человека. Но в его портретах всегда чего-то не хватало. Быть может, чего-то самого нужного, основного. И Осташов решил, что не будет больше трогать краски – пока не сообразит, чего он в жизни не понимает. То ли сам про это узнает, то ли люди каким-то образом невзначай подскажут или обстоятельства. Даже свои любимые улицы он перестал рисовать. Поскольку ему стало казаться, что, если уж по-честному, то и в улицах на его холстах тоже чего-то недостает. В общем, Владимир решил, что надо выждать время.
А если бы он мог прямо сейчас написать что-то супер-пупер, продолжил свои размышления Осташов, – что-то мирового класса? Ну и что? Ну завтра стал бы, предположим, крутой знаменитостью. И? Сколько их, великих художников? Пруд пруди! И он будет одним из них. Всего лишь! И кроме того, как долго зрители смогут любоваться его произведениями? Тысячу лет? Три тысячи? А что будет с картинами через десять-пятнадцать тысяч лет? Это же только холсты с красками, даже не каменные скульптуры. Конечно, к тому времени люди, возможно, придумают, как сохранять картины в течение тысячелетий. Придумали же, как сохранять тело Ленина. Но еще вопрос: будет ли его творчество интересно кому-то через десять, двадцать, пятьдесят тысяч лет? И будет ли вообще тогда существовать планета, какой она является сейчас? Пятнадцать тысячелетий – вот практически и вся история человечества на сегодняшний день.
Круг замыкался. Выходило, что все бесполезно. На свете нет жизненных целей, достижение которых равноценно самому факту жизни.
По спине Осташова пробежала дрожь. Впереди опять замаячил страх смерти, и Владимир поспешил освободиться из этого мысленного капкана. «Для начала можно бросить курить, я как раз давно хотел, – подумал Осташов. – Вот и новая, вторая жизнь – бросил курить. Просто так. Потому что захотелось. Потому что могу».
Он сделал последнюю затяжку, без сожаления вдавил окурок в пепельницу и вернулся в комнату.
Владимир чувствовал, что больше не в состоянии размышлять на эти темы: очень уж хрупки были его логические построения и рассуждения, очень близки они были к черте, за которой вновь открывалась пропасть, полная леденящего страха и непреодолимого ужаса. «Какого черта, человеку дано осознавать все это? – подумал Владимир. – Растения и животные вряд ли об этом догадываются. Растения и животные гораздо счастливее нас».
Глава 6. Ост
«Да, растения и животные счастливее нас, – продолжил свою мысль Владимир, – хотя они, возможно, думают о людях то же самое».
Он включил свет, присел на край кровати и огляделся, пытаясь найти себе какое-нибудь занятие.
Кроме узкой кровати, в его комнате находились платяной шкаф, письменный стол, на котором помещался маленький телевизор и аудиосистема, да еще потертый стул и большой стационарный мольберт в углу. Немудрящую обстановку, впрочем, скрашивали картины, в изобилии развешанные по стенам. В основном здесь висели полотна, написанные маслом, но попадались и акварели, и маленькие рисунки, выполненные углем, серебряным карандашом, пастелью и даже просто цветными карандашами.
Рядом с умело нарисованными портретами, пейзажами и натюрмортами соседствовали явно ученические работы, и объединяло эту разномастную домашнюю галерею, пожалуй, только одно – в нижнем углу каждой картины была подпись: «Ост». Подписываться таким образом Осташов придумал, еще будучи подростком, когда это слово навевало ему грезы о путешествиях и приключениях в духе историй Жюля Верна и Роберта Льюиса Стивенсона.
В последний раз свою трехбуквенную подпись Владимир вывел под портретом матери. На картине молодая женщина (Осташов рисовал ее по старой фотографии) была в светлом платье, с распущенными, ниспадающими на плечи и спину темными волосами; она сидела на мотоцикле, опираясь ногой о землю, одной рукой держалась за рукоятку руля (пальцы – на рычаге газа), а другой сжимала ключ, вставленный в скважину зажигания. Казалось, еще миг – и она заведет двигатель и укатит по проселочной дороге туда, куда был устремлен ее задорный взгляд – в солнечные да веселые просторы.