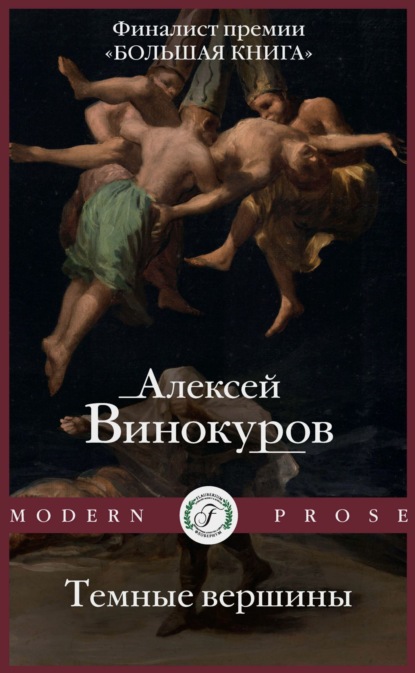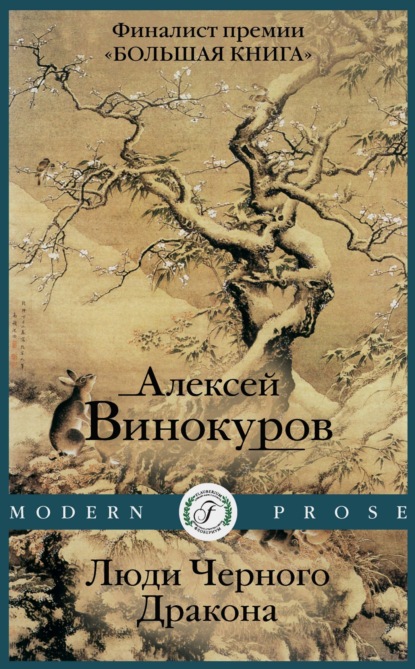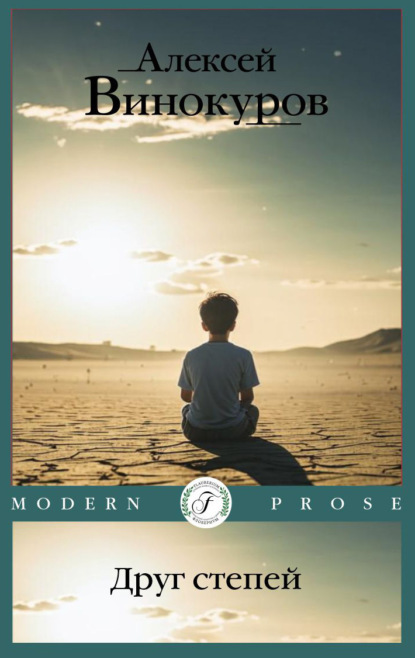Полная версия
Астра
Соловьев ждал в полусне Софию; Блок предчувствовал Прекрасную Даму; Подволин выслеживал женщину-философа. Конечно, он искал предопределения, белого абстрактного огня. Но, по-профессорски учитывая академическую дисциплину, без диплома и в самой способной девушке философа не торопился признавать. Вот с дипломом иное дело. Подволин умел ждать, любил ждать. Именно выдержанное предвкушение, особое зоркое предчувствие делали его лекции столь совершенными и завораживающими. Некоторые студенты спешили после них напиться, разбавить снежное трансцендентное вино имманентным пойлом с прилавка. Но девушки тлели от восторга всухую. Подволин не глядел прямо на свою будущую Прекрасную Даму Гносеологии. Не угадаешь по его сверкающему вверх взгляду – которая? Но лекцию он тайно адресовал ей, покамест в секрете от нее самой. Когда же она заканчивала факультет, в последнюю минуту появлялся он, вчерашний, буквально давешний кумир. И на метафизическом сквозняке свободного выбора, на пасмурных просторах осознанной необходимости дипломированная девушка вручала ему жребий.
Дело в том, что лично Подволин при всем своем блеске и очевидном парении не был собственно философом. Но тем необходимей ему становилась философ-женщина. Прототипом Канта в его лекциях впоследствии оказывалась, скажем, Лена; Гегеля – Лариса; Шопенгауэра – Света. Сам же Подволин перед ними обнаруживался даже не как неудалый абитуриент, достойный лишь раз в жизни ступить под классические своды… Быстро профессор Иннокентий Подволин делался слугой, потом еще быстрее рабом, а потом и раба, поверженного ниц, Света-Шопенгауэр и Лена-Кант оставляли. Развенчание происходило истово. Подволин оказывался все же в быту философом. Но с настоящим философом, изошедшим докучным мистическим ужасом, женщина, будь она даже философом сама, уживается с неохотой. Красавица собиралась уходить печально и неотвратимо. А умный раб тем временем, валяясь ниц в пыли, начинал помалу подниматься в глазах уже новой, следующей неприметно, робко восходящей философской звезды. Подниматься из рабской пыли на знакомый беломраморный пьедестал кумира. Так Подволин саму философию обводил вокруг пальца.
* * *Марина Чашникова заканчивала институт. На выпускном профессор Подволин замешкался в компании хмельных, уходящих из-под его начала выпускников. Так оказался в той квартирке возле Новодевичьего монастыря. Где обнаружился мальчишка по фамилии Камедьев. Хотя обнаружился так ненавязчиво, что Подволин не ощутил сперва какой-либо угрозы. Посидели разнеженно, стали расходиться.
– А вы, молодой человек, почему не собираетесь? – изумился Подволин.
– Я тут живу, – объяснил мальчик.
Вернулись в комнату. Выпили еще по рюмке.
– А была ли в России философия? – вслух задумался призывно Вася.
– Вы где учились? – озаботился Подволин.
– Я-то. Нигде.
– Вообще?
– Да, практически.
– Тогда ваш вопрос неудивителен.
– У кого из наших мыслителей есть полноценная философия? – не унимался мальчик. – Философия свободы Бердяева? Я вас умоляю. Франк? Помилуйте, слишком благонадежен, серый экзаменационный фон. Шестов? Но полагался на случай – дионисийский грешок. Трубецкой, Булгаков, всё тот же свинцовый взгляд, казнить нельзя помиловать, толкование «Записок охотника». Тогда, может быть, Чаадаев? Но не соблаговолил. Брезгливость способна доставить в желтый дом, мне ли не знать. – Камедьев сладко вздохнул. – Остается Соловьев. Соловьеву хорошо внимать, как соловью. Но разве у соловья есть философия? Восторгавшие Соловьева же схоласты замыкали уши от соловья как от адского искушения. Так и боролись с соблазном: выходили в весеннюю рощу и затыкали уши. Эдак издалека и подчалили к субъективному идеализму.
– Вы так ребячливо экзаменуетесь передо мной. Вам бы учебник логики покрутить в руках, – злобился лучисто Подволин. – Но, чтобы не заскучала дама, наскоро замечу вам, что вы позабыли еще об одном нашем философе.
– О каком же?
Подволин торжественно замер перед ответом, как перед прыжком.
– О Ленине! – напомнил он.
– О Ленине? А что Ленин? Не пойму, – приуныл Камедьев.
– Почему Ленин? – тоже расстроилась Марина.
Подволин выдержал опять паузу, сверкнул металлически зрачком и сказал:
– Ленин – это Ленин!
– Что это значит? – недоуменно поинтересовалась Марина.
– Ленин – это Ленин! – повторил Подволин.
Он сделался так неподвижен, что вдруг стал заметен трепет бликов в бокалах и рюмках на столе. Этот трепет мягко отразился в темных глазах Камедьева.
– Метро располагает к торжеству, – заметил он.
– Вы все-таки собираетесь наконец к метро? – спросил с симпатией Подволин.
– Расхожа формула, – продолжал Вася, – что, дескать, культура загнана в подполье. Но хочется воскликнуть: что подполье? Если уж на то пошло, то не в подполье, а бери глубже, в самые недра земли. Наше метро, по международному признанию, уникально. Оно – как череда подземных храмов. В храм Божий желательно ходить каждое воскресенье. Храмы нашей подземной культуры мы посещаем два раза на дню. Пожалуй, стоит задуматься: что это за культ? Центр и источник подземной храмовой системы с надземными, но тоже потусторонними вестибюлями – это Мавзолей на Красной площади. Он первая и главная станция метро, этот перебивающий легкое кремлевское дыхание скарабей. В нем не Спящая Царевна, а сам Королевич Елисей. А правильнее, сам Иван-Царевич, вылезший из недр минералогическими сталагнатами по площадям всей нашей родины. Думали некогда наивные нечаевцы, что Иван-Царевич непременно должен явиться красавчиком! Так нет же, не того по неопытности взыскивали. Наш дивный Иван-Царевич не кто иной, как Акакий Акакиевич Башмачкин, собственно и лежащий во всем своем потустороннем величии в вестибюле Мавзолея. Почетный караул его зорко охраняет, чтобы какая-нибудь ветреная паскуда не поцеловала его и не обратила в прежнего тихоню титулярного советника. Но спрашивается – чего бояться? Спящую Царевну много охотников поцеловать, а тут кому нужен оживший печальник о своей шинели? Чтобы он вместо блаженных сладостных слов «Как же долго я спала.» грустно произнес: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»
– Ну ты, Васька, даешь! – воскликнула Марина пораженно.
Не то Подволин. Он, конечно, понял вдруг, какой грозный противник сидит перед ним. Но сдаваться не собирался.
– Ленин – это второе пришествие Сократа, – произнес он. – Платон мечтал о власти для Сократа. Но первого Сократа отравили.
– Второго тоже, – вставил Вася.
– Сейчас не об этом!
– А о чем?
– О том, что лысина первого Сократа была благодушна, а лысина второго Сократа, по словам не Платона, а Андрея Платонова, была выставлена как смертоносное ядро для мировой буржуазии. – Лысый Подволин говорил и попалял взглядом синеватые кудри Василия. – Ленин получил власть и распорядился ею по-философски.
– Разве?
– Он пил морковный чай.
– Сказки.
– Да, не с Башмачкиным, но с Иваном-Царевичем вы правы. Тут вы умничка. И прекрасная фурия революции Инесса Арманд, – Подволин зацепил взглядом Марину, – поняла его сказочное очарование и влюбилась в него как в философа. Это потом уже философию его увенчали золотые гербовые колосья и рубиновые пятиконечники.
– Общество чистых тарелок, – восторженно подтвердил Вася.
– Ленин – это Ленин! – опять знойно произнес Подволин. – Он второй Сократ.
– А вы третий, – сговорчиво и лицемерно улыбнулась Марина.
– Что третий!? – ужаснулся Подволин.
– Сократ, – обозначил Вася. – Сократ Третий.
Подволин размеренно встал и направился к выходу.
Он был в чистейшем беспримесном отчаянии. Но одновременно переживал полный триумф. Этот мальчишка помешал сойти с мраморного пьедестала и рухнуть перед Мариной в пыль. Утверждение о Ленине было последней отчаянной попыткой сойти для нее с пьедестала. Но даже оно, чувствовал Подволин с жутью, не помогло. Командор ни с чем вернулся на пьедестал, потому что ему никто не протянул руки. Жуть лелеяла душу и разум. Вместо Марины Подволин получил жуть, о которой мечтал, преподавая философию, но не причащаясь ей. Теперь жутью он причастился наконец философии.
* * *Подволин ушел, Камедьев остался. Однако мужем Марины он все же не стал. Марина быстро почувствовала, как же Вася ее обделил. Подволин приготовил ее, она уже стала Мариной-Кьеркегор. Но в пыль перед ней не рухнул, не развенчался. Когда Лена-Кант и Света-Шопенгауэр оставляли Подволина в пыли, переступали от него порог, кантианство и иррациональный пессимизм спадали с них, как обноски, и пополняли захламленные антресоли и шкафы метафизического барахольщика Подволина. Женщины шли навстречу счастью, ветру и вспоминали свое философское призвание с умилением, как страшный сон. А Марина нет. Марине суждено было теперь таскать на себе пальто Кьеркье-гора со страхом в одном кармане и трепетом – в другом. Поэтому Вася стал Марину раздражать. Сила Подволина была велика. Пусть он ушел, но он убедил Марину в том, что Ленин – это Ленин, в том смысле, что он единственный настоящий русский философ. Марина испугалась дотоле возлюбленной философии.
– Ага, – ворчала она, – попала бы власть ко всем этим кротким и обаятельным мыслителям, они бы дали жару похлеще Ленина. Ленин, пока не получил власть, тоже был обаятельным чертовски.
– Но как же Марк Аврелий? Он-то как? – спрашивал с ускользающей надеждой Вася.
– Марка Аврелия сынок его порешил из-за омерзения перед философией. Вернее, от оскорбления философией. Тоже, знаешь ли.
– Неужто философия оскорбительна? – недоумевал Вася.
– А ты не знал? Наивный юнец! В Спинозу ножом на улице ткнули неспроста. Казалось бы, сама кротость, линзы шлифовал, никого не трогал. Ан нет, шалишь.
– А как же я? – робея, спрашивал Вася.
– А ты стерегись и дальше. Ты не такой уж простак. Думаешь, я не догадалась, почему ты школу не закончил? Смекнул, что тебя поджидает, если придурком не прикинешься. Но и это, милый мой, особо не помогает.
– Но как же Кант?
– Ну что тебе Кант? Он обнаружил, что состарился, только когда свою первую «Критику» закончил. Представь, как же он хорошо в своей «Критике» спрятался на пятнадцать лет даже от своего отражения в зеркале. А как выследить человека, если он сам себя не замечает?
Со скуки и досады Марина стала играть с Васей в подволинскую игру: сегодня Вася был Юмом, завтра Фейербахом, послезавтра Сартром с расходящимся косоглазием, благо у Васи от первой же рюмки расходились глаза. Но и это не слишком развлекало. С зевотой Марина падала в пыль и сразу в ней засыпала.
* * *В мужья Вася Марине не задался, но сошел как воспитатель Луки. Тетя Марина то и дело забирала племянника, когда Астра пропадала ради очередной своей одержимости. Бабушка Мирра все-таки посвящена была мужу, к тому же работала на радио, где писала сценарии для детской передачи… Вот там Мирра блистала. И если она вдруг приходила в разных ботинках, это расценивалось как вдохновенная игра великой сказочницы. Бабушка Валя так берегла Лучика от Бабы-яги, что брала его от греха всё реже. Оставленного бабками и матерью, выхватывала Лучика веселая тетка. Так Лучик трех лет от роду познакомился с дядей Васей.
Вася полюбил Лучика всей душой. Водил его в Третьяковку, в Пушкинский, на службы в Новодевичий. В храм он Лучика приводил не как мать Астра, а философски. Требовательная материнская церковность так не походила на кроткую и радостную церковность дяди Васи. Дядя Вася сам был еще почти ребенок и радовался в церкви вместе с Лучиком, как дитя.
К тому же Лучик оказался вундеркиндом. Тетка Марина, не задумываясь, читала ему философские книги вслух. Марина читала философию, как ее мать читала приключения. Мирра Михайловна читала приключения в память о недовершенном детстве; Марина читала в память о только что недовершенной из-за вмешательства Камедьева и ухода Подволина философской юности. И только Лучик научился говорить, выявилось, что он запоминает наизусть страницами. Неудивительно, что особенно хорошо укладывались в его память страницы Владимира Соловьева. Вася беседовал с Лучиком, тот прилежно, хотя не всегда кстати, отвечал ему строками Соловьева, Сергия Булгакова и Бердяева. Вася сглатывал слезу умиления и думал, что Соловьев сыграл с ним злую шутку. Марина не любила его, сошлась с ним только на почве Соловьева. Ребенок, к которому Вася прикипел, как к родному сыну, тоже охотно вещал соловьевские истины. Хотя иногда выходили казусы.
Лучик подражал деду своему Чашникову. А тот, чтобы не попасть впросак, высказывал свои суждения под видом изречений Вольтера: «Как сказал Вольтер…» – и присваивал Вольтеру свою крамольную мысль. Он был единственный беспартийный космонавт в своем поколении. Когда ему в советские годы настоятельно предлагали вступить, он отговаривался, например, так: «Как сказал Вольтер, для хама нет ничего страшнее одиночества. Так нужен ли вам в рядах партии хам?» Крутил мозги, что называется.
Запуганный с пеленок матерью, Лука тоже высказывался, ссылаясь на старый авторитет. «Владимир Соловьев сказал, что, когда я вырасту, злых людей не будет», – скажет он. «Во времена Соловьева принято было мечтать о Царстве Божием на земле. Думали, что через сто лет наступит эра справедливости и счастья. А теперь. Ну как же их не будет, Лучик, куда они денутся? Как может упраздниться зло?» – ласково возразит дядя Вася. Лучик брал игрушечный пистолетик, целил в зеркало, щелкал в свое отражение, показывал: «Вот так».
Но когда подошла пора идти в школу, явилась в очередной раз мать и забрала Луку в деревню. Определила его в школу там. Она уперлась в то, что Лука должен учиться с неиспорченной деревенской беднотой. Трудно сказать, где она усмотрела в деревне неиспорченную бедноту. Хотя, возможно, Астре виднее. Она Луку здесь выносила, поджидала здесь, доходя до молитвенного распевного исступления, Степана, собирала вокруг себя особую деревенскую интеллигенцию.
Ради общей молитвы и душеспасительных бесед забрала в женский круг и одного поэта-заику.
Глава четвертая
IПоэт Николай Штурвалов был талантлив с разных сторон. Писал маслом по жести лесные пейзажи на стендах турбазы, установленных в лесу. Получалось, масляная березовая роща на жестяном щите установлена в живом сосновом бору. Но первейший талант Штурвалов относился к стихам.
У Штурвалова было четверо детей, жена-богомолка. Сам Коля Штурвалов, не слишком богобоязненный человек, в бабью интеллигенцию затесался, потому что полюбил Астру. Стал писать ей чудаковатую лирику, которую извиняло то, что ее и так уяснить оказывалось всем недосуг, а Коля, сверх того, читал ее с таким чудовищным заиканием, что и вовсе разобрать что-либо получалось невозможным.
Собирались в избе Астры. Коля упрямо слушал взаимные проповеди. А потом вдруг наперекор начинал читать свое:
Морозный воздух, как вода,Наполнит воздух за стеклом:Стекает в сад едва-едваВишневым веткам на поклон,Что будто высохли к зиме,Но живы не под стать полыни…Пусть те и эту манит инейОгранкой ветровой к земле.Из боли набело глядимВ июль, гладь нижущие саблиРогоза там – гребок один —От весельной волны ослабли.Звон дышит чаем на стакан,Мы в плен попали к умиленью,Тревога замирает такНичком на сомкнутых коленях.Терраска сбоку снесена,Но сзади строится окошко,И ты, как изморозь, роскошнаИ, как забота, спасена.Никто ничего не понимал. Равно и Астра. Думали, наверное, жене посвящено, которая оказалась простовата для этих богословских сборищ, то повторяла наивно за другими, а то замолкала о чем-то, что не хотела высказывать, но что было и сладким, и терпким, и ярко-синим, и не очень съедобным, как ягоды терна. Этот матовый синий холод дышал в ней и звенел в зрачках немотой, страшной, прекрасной, дикой и скорбной, отчего ее присутствие ощущалось почти потусторонним, и то, что почти, еще тяжелее, чем если бы совсем. Это называется простотой. Участницы духовного кружка были не настолько просты. Хотя в каждой занималась эта волглая и мыкающая песня кукушки. Эта песня – как круги на воде или как молочные, округлые, как сосок, глотки младенца. Жена Штурвалова уже замешкалась навсегда и замкнулась на том, к чему остальным подругам хотелось сообща приходить подольше. Она бы могла оспорить главенство Астры, потому что юродство обеих было вровень или жена Штурвалова превосходила в нем Астру. Но в ней не осталось этого нелепого Астриного азарта. У нее был другой азарт: неспешный, крестьянский, хозяйственный, делающий работу похожей на танец и любовь похожей на материнскую заботу. Астра же перецветала в своем азарте, как чертополох, с фиолетовыми сполохами, для которых и собиралась самодеятельная секта. Однажды Штурвалова перестала приходить. Вместо нее однажды пришел ее Николай.
Читая стихи, он заикался не только устами, но и взглядом, пытался смотреть на Астру. Но сносило взгляд, как лодку по течению, получалось, что он смотрит на фельдшерицу Женю, у которой взгляд сразу хмелел от лирики.
* * *Опять вернулся из Сибири Степан. Он несколько раз сбегал из Сибири, как каторжник, и несколько же раз в нее возвращался по собственному приговору. В Сибири он становился еще красивей, еще огромней.
Богословские бабы сразу прекратили ходить в избу к Астре, понимая что к чему. Но не Штурвалов. Штурвалов приходил, как и прежде. Пил чай, с трудом вливая его в конвульсивные уста, пытался рассуждать об искусстве, о живописи. Степа терпеливо пережидал корчи чудака. Тот начинал читать ему свою любовную лирику. С вызовом, про Астру:
Спустился воздух на ночлег,Вода худа от талых нег,Немые паводки сосутХрустальный мизерный сосуд.Но солнце размыкает ветки,Как утро раскрывает веки,А ты – заботы тебе мало! —Вся с головой под одеялом,И ножка на вершок торчит.Мизинец твой так сладко спит,Льнет к безымянному соседу.Я жду. Часы зовут к обеду.
Недлинное стихотворение Николай выговаривал с четверть часа. Но Степан удивил Астру.
– Очень хорошие стихи, – заявил он. – У тебя, Коля, дар. Твои стихи, как местные цветы, от Волги зависят. Но Волгу и несут.
Коля не улыбнулся в ответ. Наоборот, побледнел в синь, даже как будто оскорбился, хотел, наверное, ответить колкостью, но у него и вовсе ничего не получилось. Его заколотило, и он боком, словно приплясывая, выдворился из избы. Потом бился вдоль бревен стены, словно и правда жестоко побиваемый.
– Ц-ц-ц-в-в-ве-т-ты в-в-вянут. А с-с-сти-х-хи, нао-б-б-борот, н-недора-а-а-с-с-пус-ск-каются… – захлебывался он возле рассохшейся щели окна.
Степан вроде бы ненадолго заехал в Горбыли, только к сыну. Но вот обложился подрамниками, зачастил на пленэр, как на охоту, с той же голодной жаждой. Он опять застал Астру в момент ее дикости, ее полоумия и озарения. Глаза у нее светились в избяной полутьме, как у кошки или как морская вода. Степану опять зашло в голову, что Астру он любит. Лучика он и без диких озарений любил. Только любил неловко, кидался к его ножкам с восклицанием: «Сынуля!» – и сразу отпрядывал, терялся до иступленного отчаяния. Внутри начинало сосать и нагнетаться. Степан бежал с этюдником через поле в лес, словно преследовал зверя. В часы такого счастья Степа чудовищно переживал, что не умеет петь. Казалось, что только спевка с женой позволит не расплескать счастье через кривые окна избы. А Астра: раз вернулся Степа, то и мир, значит, понятен. Степа будет писать картины, Лука делать уроки, она петь в храме, где уже привыкли к ее исчезновениям, понимая их неизбежность, и держали ей место на клиросе.
Но в местной школе сверстники Лучика не приняли. Его знание страниц Владимира Соловьева наизусть не выручало. В первом детстве он жил здесь временами, рос особняком, в стороне от местной детворы, а вроде и рядом. Детвора помышляла до него добраться. И вот Лука попал в ее лапы. Одноклассники приняли его как куклу для битья. На переменах крепкие свирепые парни катались на нем, как на грустном ослике.
* * *Но не так унижения одноклассников подкосили Луку и помутили его память, как одно происшествие.
Лука пошел погулять в поле. Видит, навстречу ему старуха не старуха, странный дядька, похожий на тетку. Лохмы от ветра на сторону, одежда висит на худющем теле, как мешок на топорище.
Дядька этот замер перед Лукой и задрожал. Черты лица его запрыгали, глаза закатились, зубы застучали. Он протянул к Луке тонкую, как ветвь, руку и, словно бы не мог дотянуться, силился обморочно, но не мог.
Лука замер. Что ужасный дядька от него хочет?
– Ты, ма-а-а-алы-ы-й, сы-сы-сы-нок-х Ас-ас-ас-т… х-х… – И страдальческая улыбка перетянула худое, словно узлом завязанное, лицо, а глаза вспыхнули, как грозовое небо.
У Луки от ужаса перехватило горло. Он слова не мог вымолвить, да и не знал, что тут скажешь.
Так они стояли: Штурвалов корчился мучительно и умиленно, а Лука словно бы заколдовывался, терял разумение. Дядька наконец обеими руками, как плетьми, отмахнулся и повлекся через поле, подталкиваемый ветром. Лука остался посреди поля. Он так в мгновение побледнел и осунулся, что светлые волосы его могли бы показаться седыми. Овевал ветер, но Лука ветра не ощущал, ощущал он его только по дальней гулкой опушке темного леса.
Не припоминая как, Лука вернулся домой, зашел в избу. Не в поле, а тут-то и случилось его помрачение.
В избе сидел его отец, великое счастье, великая радость. Но перед отцом сидел тот же жуткий дядька. Лука не сталкивался со Штурваловым до этого.
Отец стыдливо обрадовался Луке, подозвал к себе. Но дядька тоже обрадовался Луке и тоже звал его к себе, крючил пальцы и запрокидывал лицо. Лука прижался к отцу, к его протабаченной жесткой красной бороде, и хотел только одного: чтобы ужасный дядька исчез, хоть в окно, что ли, вывалился или в подпол провалился.
А дядька не исчезал. Напротив, он стал силиться что-то произносить. Держась судорожно за угол стола, он принялся декламировать стихи:
Я пью не вино,А волжскую воду,Ведь завтра – давно;Шагай смело в лодку.Вгони жизнь в огни,Когда станет вечер,И счастье вогни,Чтоб крыть было нечем.Цветы расцвели,Хоть рано покуда,Здесь мой равелинИ чей-то здесь Будда.Как истина, всталМой вечер туманный,Лицом я упалВ родные лиманы.Тут с Лукой случилось самое страшное. Родители терпели конвульсивное чтение Штурвалова, но Лучик на коленях у отца проникался им. Ему нравились странные слова. Его чаровало и то, как дядька запинался и закатывался, как он из последних слабеющих сил стискивает ускользающий угол стола, как бьются его ноги в раздавленных ботинках об пол.
Тогда Лучик и сделался недоумком. Словно бы мальчик заразился от Штурвалова, словно бы это было его проклятие, его сглаз за то, что Астра не ответила на чувства поэта.
* * *Степан своего здешнего восторга опять не выдержал. Астра тоже: заговорила опять о жилищных условиях, стала предъявлять какие-то то ли старые, то ли новые упреки. Или молчать. Самое ужасное было, когда она молчала.
– Ты на меня обиделась? – спрашивал Степа.
– Нет, – отвечала коротко Астра, чтобы моментально опять замолчать.
– А что тогда? Почему ты молчишь?
– Я не молчу.
– А что ты делаешь?
– Помалкиваю.
– Но от твоего помалкивания умереть можно. Это помалкивание еще более неотвязное и тяжелое, чем любые упреки.
– Ты хочешь ссориться?
– Я хочу мириться.
– Давай. Но что нам мириться, если мы не ссорились? Всё хорошо.
Это «всё хорошо» оказалось столь неодолимым, что Степан, как всегда, скорбно сбежал из Горбылей.
IIДо встречи с дядей Колей Штурваловым Лучик, узнавший грамоту еще до школы из русской философии и молитв, делал за хулиганов уроки. А они продолжали кататься на нем верхом. Но после знакомства со Штурваловым и хулиганы на Луку рукой махнули.
Раньше они били его, оседлывали его, но считали каким-никаким, но товарищем. Когда же Лучик стал ходить везде вместе с долбанутым Колей Штурваловым, хулиганы отказали ему в дружбе, тем более что уроки он больше за них выполнять не мог, возвращал пустые тетрадки.
«Сделал?» – спрашивали они. «Сделал», – охотно отвечал Лучик.
Сначала доверчивые хулиганы так и сдавали тетрадки учительнице, не открывая. Но когда тетрадки им учительница вернула с большими единицами на пустых страницах, хулиганы растерялись. Во-первых, такой оценки они не ведали. Знали двойки и привыкли к ним, как к уличным собакам, что, подбегая угрожающе, порычат, но чаще отойдут, и не обращали на них, как на тех собак, внимания. А кол изумил, непонятно было сразу, хорош он или плох. За разъяснением хулиганы подошли к тому же Луке.