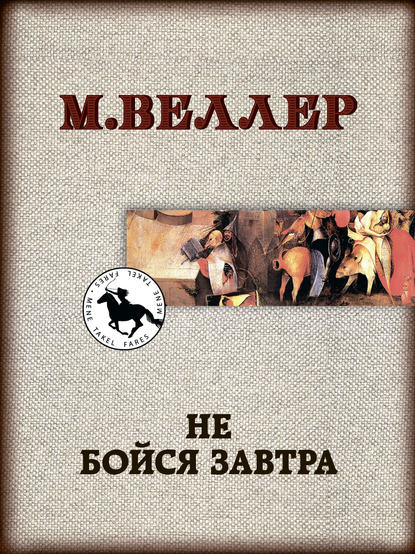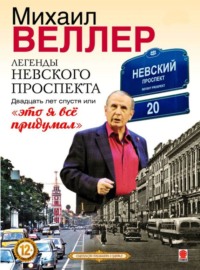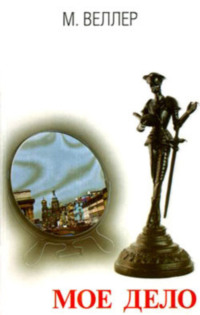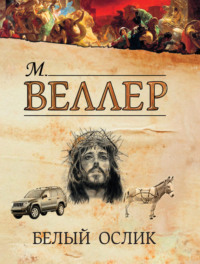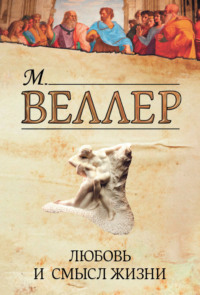Полная версия
Остров для белых
– Как бы нам это все назвать… – задумчиво протянул здоровый. Глаза его сузились. Губы были пригнаны плотно, как кирпичи.
Маленький встал, покачнулся с носков на каблуки, прочно расставил ноги, выбросил правую руку вперед, словно приветствуя дальних друзей:
– Да здравствует контрреволюция! – провозгласил он, катая «р» во рту, как шарик.
Здоровый хмыкнул и рассмеялся.
– Согласен: по сути верно, а по форме издевательство, – кивнул увлекшийся лектор-стратег и рубанул воздух кулаком:
– Реконкиста! Добро берет реванш. И не бойтесь пафоса, батенька, – прервал он открывшего было рот партнера, – толпа обожает пафос. Большие слова – символ великих дел. Слово – должно воплощать в себе великую идею, великую веру – в нашу победу! В нашу правду! Добро всегда побеждает! Наше дело правое, победа будет за нами! Каждый должен быть убежден в этом. Правда горит в наших сердцах!
– Теперь мне понятно, почему они держали тебя в этом гранитном форте, не спуская с него глаз, – проговорил Трамп.
Легкий апрельский ветерок пошевеливал край тента, сдул бумажную салфетку со стола.
– Люблю хорошую драчку. Всем козью морду сделаю, – мечтательно пообещал Ульянофф.
Глава 13. Мама, папа ранен!
В полдень над Уитерборо загремел колокол. Звон его был так тревожен и громок, мелодичен и надтреснут в то же время, что персонал и ходячие больные госпиталя Святой Марии ринулись к окнам, а сидевшие в баре «Ла Газелы» высыпали на угол Медоу и Вест Мейн стрит.
Колеблющий пространство медный гул не имел ничего общего с деликатным перезвоном Церкви Непорочного Зачатия в нескольких блоках отсюда. Колокол неистовствовал на высокой часовой башне Юнион Стейшен, главной достопримечательности города. А предшествовали этому странному и настойчивому звону следующие события:
Немногими минутами ранее к краснокирпичному параллелепипеду башни, вздымающейся на двести сорок футов в небо над городским пейзажем, подошел человек не совсем обычного вида и еще менее обычных манер. Черный чуб его торчал дыбом, рот изгибался самой распутной гримасой, а глаза под высокими вразлет бровями имели выражение насмешливое и даже издевательское. Но внешность была отнюдь не главным, как немедленно выяснилось.
Подобно фокуснику, из одного кармана он извлек живого паука, из другого – стакан с вином, окунул паука в вино и положил на ломоть хлеба, для чего поставил стакан у ног, а ломоть достал, опять же, из кармана. После чего, придерживая паука на хлебе указательным пальцем, сунул половинку сделанного бутерброда в рот и начал жевать.
Проходившая по тротуару женщина вгляделась и взвизгнула. Тинейджер на скейтборде резко остановился, крутнув доску на пятке, и одобрительно заржал. Старик в соломенной шляпе удержал прыгающие движения кадыка, но тонкий рыгающий звук удержать не сумел.
Стало понятно, что это городской сумасшедший. Гривастый студент (хотя вероятнее бездельник) сообщил, что это определенно художник и он совершает акцию. Старая леди высказала мнение, что такой урод может быть только французом, она в молодости жила в Париже и знает. И уже нашлись очевидцы и знатоки, которые объясняли, что это старый художник из Европы, малюет всякую хрень, но иногда богатые мудаки его мазню покупают. А знакомый соседа художника сказал, что сосед ему рассказал, что его зовут Ив, а вот фамилию точно не помнит: не то Ли, не то Маск-о-Ги, а может Санги.
Закончив трапезу, человек допил вино, вытер пальцы о штаны, вплотную приблизился к стене башни – и вдруг с непостижимой (именно непостижимой!) ловкостью полез наверх. Не то как матрос парусного флота, не то даже как съеденный им паук.
Он легко миновал одно над другим три окна, передохнул полминуты на широком карнизе, по вертикальной поверхности пополз вверх, впиваясь пальцами в швы между кирпичей, достиг огромного круга часов, держась за стрелки и упираясь ногами в цифры добрался до пилонов балкона и, подтягиваясь на руках, сумел залезть на этот балкон, квадратом окружающий колокольню по всем четырем сторонам.
Зрители задирали головы.
– Как ящерица по стенке, – сказали из парка через дорогу.
Человек помахал с поднебесной высоты балкона, повторив жест на все четыре стороны, и скрылся в арке колокольни, венчающей башню. После чего и раздался удивительный звон, неправдоподобно громкий и странного тембра. Скорее в нем было звяканье латунной гильзы и пение чугунного рельса, чем мелодия благородной бронзы.
А когда минут через пять звук прекратился, и мозги всех, кого он настигал, перестали рассыпаться в резонанс и вибрация пространства утихла – человек вновь появился на балконе. Вероятно, там была заранее установлена какая-то звукоусиливающая аппаратура, какие-то колонки стадионной мощности. Иначе ничем нельзя объяснить отчетливый и богато интонированный, как в консерватории, голос, мощностью много оглушительнее мегафона полицейского вертолета, с небес сокрушающего сознание:
– Кэй! Детка! Мамочка! Папочка ранен! Об этом должен узнать весь мир! Это мой главный, эпохальный, нетленный шедевр!
Меня смертельно ранил Искусственный Интеллект! Он умнее человека – и ему не нужно искусство! Тупые машины, арифмометры и манипуляторы, уже жрут человека. Компьютеры травмировали меня, они меня жрут! Мой гениальный мозг, мои шедевры, мою душу, мое стремление к прекрасному, мою любовь к красоте и людям. Они жрут мою любовь к тебе, любовь моя! Искусственный Интеллект причинил мне нестерпимую боль! Он оскорбил меня, шокировал, он травмировал мои чувства, вверг меня в депрессию, не дает мне работать! Я требую суда над ним, требую наказания и возмещения причиненного мне вреда!
Меня смертельно ранили социалисты! Они хотят лишить меня права на мои шедевры, они объявляют, что шедевр – заслуга не художника, а всего общества, среди которого он живет – и поэтому принадлежит всему обществу! Твой гений принадлежит народу! Сдохните, ублюдки, импотенты, идиоты, мой гений принадлежит мне, а не вам! У меня приступ удушья, сердцебиение, лихорадка. Моему здоровью нанесен непоправимый ущерб. У меня пропал стимул к работе. Я требую возместить мне утрату работоспособности!!! Пусть общество само себе рисует. У меня трясутся руки, радужные круги в глазах… Они преступники! Убийцы!
Панические атаки сокрушают мою нервную систему. Я – невинная и беззащитная жертва мусульман! В Христа я верую, в Деву Марию, в Святых Апостолов, вера моя истинная! Почему в моем доме негодяи смертельно ранят меня своими надругательствами – своим многоженством, своим еретическим шариатом, своими призывами к джихаду, открытием своих храмов на моей христианской земле. Их женщины оскорбляют меня своими закрытыми лицами, своими черными балахонами и платками – они выказывают презрение ко мне, ненависть к моим взглядам, моим традициям и моей культуре. Они показывают: мы чужие вам, и мы будем на вашей земле вместо вас. Сыны Ислама глумятся над нашими женщинами и истекают похотью, но смеют презирать нас за то, что мы любуемся женщинами, как любуемся красотой во всем. Мухамед не мой пророк, зачем его последователи кричат с минаретов призывы молиться ему – на моей земле. Пусть мусульмане живут на своей земле по своим законам! Они оскорбляют меня ненавистью к свинине, они эстетически травмируют меня своими позами на молитве, когда зад поднят к небу, а голова воткнута в землю – эта непристойная поза шокирует меня как художника и христианина. Ранено мое чувство прекрасного, разрушено чувство защищенности, у меня отнято чувство единства и братства со всеми окружающими людьми – какое же братство, если тебя изобьют за взгляд на женщину или зарежут средь бела дня во имя величия Аллаха.
Я ранен! Кровь течет из моего сердца. Как мне жить?
Извращенцы всех мастей, потерявшие не только стыд, но разум и брезгливость, смертельно ранят меня! Их агрессия и нетерпимость, бесстыжая похоть и пропаганда мерзости, от которой блюют нормальные люди, сделали меня больным. Моя чувствительная душа художника не может перенести этого глумления над святым – над любовью мужчины и женщины, божественной любовью, данной нам свыше, любовью, которая есть источник всего живого на земле. Я ранен! Спасите меня! После этих злых уродов не останется человечества, они извергают семя свое в мужскую жопу, на землю, куда угодно, только не в лоно любимой женины. А их женщины лижут пизду друг другу и говорят, что это хорошо, сладко и современно более, чем любовь по заветам Господа. Моя душа христианина корчится в муках, моя вера предается поруганию.
Кэй! Жена моя, мать моя, дочь моя, любовь моя! Мама – папа ранен! Удастся ли ему выжить? Дашь ли ты негодяям глумиться над ним, чтобы он умер? Умру ли я неотомщенный? Я – человек, мужчина, художник!
Уже неземным светом залит наш безвоздушный мир. Людские тела и лица превратились в бесформенные куски фантастической плоти, черные фасолины и цветные кляксы. Черный туман валится в геометрический мираж, и я не могу там жить.
Это не искусство. Это безнадежные грезы смертельно раненного.
Господи. Я был моряком, я был солдатом, я был шутником и пьяницей. Неужели… неужели мой путь был – к сегодняшнему дню?.. Неужели мои картины ранили мир… я не хотел, я же не всерьез, я двигал искусство вперед… а где перед, да?..
Но я же не призывал душить людей, калечить их души и разрушать мир! Или я – художник – предчувствовал это?..
Господь, мой Создатель и Хранитель… Страшные мысли приходят в голову перед тем, как с высоты ринуться в бездну земли. Стрелки часов подо мной отсчитывают минуты моей жизни, и внизу, под башней, под асфальтом – земля, земля, которая меня примет… О нет, сожгите мою плоть, развейте мой прах над бескрайними волнами!
Я писал нечеловеческий мир – и дух мой будет вечно решать загадку Сфинкса: я лишь проницал подлинный и страшный облик мира и писал его таковым – или я, грезя, писал его, и он таковым сделался. Mea culpa. Лучше бы я погиб молодым, в Тунисе, я был хорошим сержантом.
В меня попали! Гады, они все достали меня.
Мама, папа ранен!
Глава 14. Убей гадов
Сидели они в маленькой квартирке на шестом этаже, и стояла между ними бутылка и пепельница. И было им на вид лет под сорок. Один мужчина обладал внешностью потрепанного земной жизнью ангела: чистое лицо, женственный рот, льняные волосы, голубые глаза, но вот морщинки у глаз и складки у рта придавали ангельскому лицу выражение усталости. Второй же был здоровенный мужичина, похожий на Джона Уэйна в его лучшие годы. Только стетсона и шейного платка не хватало.
Ну, а за окном был нормальный городской пейзаж, а в углу что-то мелькало в телевизоре.
И не было бы в этой расхожей бытовой сценке ничего примечательного, если бы не бешеная ярость в речах одного из собеседников и не ужасное их содержание. Что примечательно: огонь и дым извергал именно голубоглазый ангел, а мялся и кряхтел брутальный мачо. Что еще раз подтверждает известную истину о том, что внешность обманчива.
– Мы ничего не можем с ними поделать, Джо. Их много. У них вся власть. И деньги. И телевидение, и социальные сети. И армия. Правительство. Отряды штурмовиков. И масса людей верит им, вот что самое страшное! Что же мы можем сделать?..
– Убивать!
– Кого? О чем ты говоришь?.. Их много, они сила. Кого убивать? Никого ты не перебьешь. Всех убивать станешь, что ли?
– Нет. Всех не надо.
– А кого? Кого – надо?
– Знаешь, я ведь все терпел. Долго. Очень долго. Терпел, когда в колледж приняли не меня, а негра. Он был глупее и ни хрена не знал. Но он же был черный! И этого было достаточно. Потом терпел, когда старшим диспетчером поставили не меня, а негра. Он с трудом считал и вечно все забывал, но он же был черный! А это главное.
Потом меня погнали на курсы расового раскаяния, или как там это у них называлось. На этих курсах учили, что ты дерьмо, потому что белый. И все, что сделали белые – дерьмо. И наша страна дерьмо, потому что она расистская. И вся наша история. Наш флаг, и отцы-основатели, и писатели, в общем – все дерьмо. А главное в мире – это черные.
И еще – главные все бедные. Насрать, что бедный может быть ленив, жулик, нарк, бездельник – это ты виноват! Потому что у тебя – белая привилегия. И ты должен на него работать, ты понял? Ты должен свое заработанное отдавать ему, чтоб он жил не хуже тебя. Потому что это называется социальная справедливость.
Знаешь, я стерпел, когда моего старика в Балтиморе свалил на улице какой-то черный гад. «Белый медведь», ну, знаешь. Игра такая, милая такая, игра черных сукиных детей. Свалить белого с ног одним ударом в челюсть. Незнакомого. На улице. Неожиданно. Лучше – старика: его легче свалить, и сдачи не получишь. Я должен был поехать туда, найти гада и изуродовать. Отец получил сотрясение мозга и месяц пролежал в госпитале. А я утешал его по телефону. Мудак сраный.
Но когда они добрались до детей – это все. Это конец. Это предел. Больше им живым не ходить. То есть какая-та красножопая сука, какая-то демократическая мразь порылась в сетях и решила, что я «допускаю экстремистские высказывания». Разжигаю рознь. Подрываю демократию. Какую еще на хер демократию в этом фашистском государстве?!
И вот. Пришли. Трое. Полицейский, лоер и уполномоченная или как ее там по опеке. Ну, все дома, суббота. Открыл. И на тебе: постановление.
Дженни сразу побелела, у нее истерика, кричит, детей обхватила. Они не поняли ничего, испугались, ревут. А эти две тетки, уполномоченная с лоером, шасть, значит, к детям и расцеплять их стали: мол, пойдемте, деточки, вам будет хорошо, а мама потом к вам приедет, и вещи ваши потом заберем, и игрушки.
Ты понял? Ну – скажи мне: что делать? Как быть? У Майка слезы градом, Джен в мать вцепилась, ей пять лет всего. Ну – как быть?
– А у них бумаги все в порядке были, что надо?
– Будь спокоен. Целая пачка.
– Потребовать адвоката.
– Да, говорят, конечно: обращайтесь в любое время на сайт. А лично – запись: по рабочим дням с девяти до одиннадцати. А сейчас отойдите, вы нарушаете закон, это уголовная ответственность. Преступник!
– Да…
– Вот тебе и «да», блять. Короче, оружие они же давно у всех отобрали. Ну… У нас у двери на полочке ваза стояла, латунная, с узорами, фунтов шесть. Схватил я вазу – и въебал полицейскому по башке!
– Ну и?..
– С копыт! Вытащил его «глок», суки сразу обмерли, вид такой – не верят, что происходит. Ну, я их пристрелил на месте. Суки, мог бы – порвал на куски!.. Ну, и полицейского тоже пристрелил – для страховки, вдруг он еще живой был.
– Бля-ать… Чего теперь делать-то…
– Чего делать. Все уже сделано. Никто, вроде, выстрелов не услышал. А может, услышали, да никому ни во что вмешиваться неохота. Мы в пять минут – документы все, наличность, что была кроме карточек, ну там кое-что из одежды – и в машину. А их машину на место своей загнал. Чтоб не маячила перед домом. Раньше, чем через полчаса, не должны ведь хватиться.
Через двадцать минут я Дженни с ребятишками оставил в закусочной, а сам подъехал к гаражу, продал свою машину и купил другую, неброскую такую «тойоту короллу». Дунул на восток, потом на юг, и перебрались мы в Мексику. Слава богу, стену так никогда и не достроили.
– Слушай, так на кой ты сюда вернулся? Найдут ведь!
– Замучатся искать. Документы сделали мне ребята нормальные, в компьютер тоже вбили все, что надо. Я теперь Ян Ковальский из Польши, рабочая виза.
– С ума ты сошел! Твои отпечатки пальцев у них в картотеке – сто процентов, дом же тогда весь обнюхали, иначе и быть не может. Ты до первой проверки. Фейс-контроль, первый же полицейский.
– Ты еще в школе медленно соображал. Отпечатки в картотеке давно заменили. Огромное удобство нашего времени: чтоб ограбить банк, не надо вылезать дома из кресла. Или похитить планы генштаба. Хороший хакер – хозяин мира, Робин Гуд, блять, перед которым трепещут вашингтонские шерифы.
А здесь я – воевать. Не могу, понимаешь? Внутри все горит. Не могу больше терпеть. И когда врут нагло в глаза, и когда людей унижают, и когда уничтожают все, что потом и кровью создано было – убивать! Они только это понимают. Они уничтожили страну, они хотят уничтожить всех нас. Мозг из нас вынуть, душу вынуть, и вложить вместо них свое говно.
Видишь – уничтожает судья человека, который посмел не любить БЛМ, не встал на колени? Убей гада! Глумится наглый отморозок над приличным человеком? Убей его на месте! Его уже не перевоспитаешь. Видишь – закрывают магазинчик, где люди работали, а корпорация только и знает свои супермаркеты открывать повсюду? Убей того, кто закрыл. Кто это постановление принял. Кто по душу хозяина пришел. Убей! И только тогда другие поймут.
Разучились мы за свободу бороться, за свое место под солнцем. Что ж… Пока мы еще живы – не поздно поправить дело…
Они хотят сделать Штаты страной негров, латиносов, мусульман и пидарасов. Все блага бездельникам, вся власть лжецам! Вот их лозунг – ты понял? Не выйдет! Это мы все построили, это наши предки эту страну открыли, освоили, построили, подняли.
И никому – никому! – отдавать ее нельзя! Много всяких паразитов на готовое-то место, на теплое да сытное, поналезет и начнет в мозг срать, что это их содержать надо. Так вот – убей гадов! Хуже уже не будет. Хуже уже ничего нет.
И я тебя уверяю, когда мы, нормальные работяги, природные и потомственные американцы, разозлимся всерьез – ну так мы уже разозлились. Зря эти ребята разбудили зверя.
Так что – весь тебе мой сказ. Убивай гадов! И если это будет убеждением всего народа – да им хана. Они же все дармоеды. Паразиты. Только болтать умеют, а еще умеют воровать, ломать все и клянчить халяву.
Все продажные подлые политики, все эти миллиардеры, вообразившие себя диктаторами мира, все эти ученые болтуны из их вонючих университетов, где учат ненависти и коммунизму, все эти погромщики и фашисты всех цветов радуги, все эти пропагандисты ебли мужиков в жопу – им мало было, что им давали дышать? Им мало было, что им еще шли навстречу и давали всякие льготы? Так они еще решили нас уничтожить – нас, нормальных, белых, работяг, семейных, честных? За что, сука?! За то, что мы не такие, как они? За то, что мы нормальные? Что им неохота чувствовать себя неполноценными уродами рядом с нами? И поэтому нас надо уничтожить? Ну так мы уничтожим их.
Это не люди. Это гниль, гангрена, сифилис, падаль смердящая, которая отравляет все вокруг. И если она теперь убивает нас – ну и пиздец им! Убей гадов!
Глава 15. Утопия по имени «анти-»
На Днях Философии в Бостоне я делал доклад по энергетической сущности эволюции Универсума. Секция была чахлая, хотя и многочисленная: человек шестьдесят в аудитории.
«Философия жизни», по-моему, вообще дурацкое название, чтобы обозначать им одно направление. Которое даже не направление. (Разве что противопоставить ей «Философию смерти».) Вообще их в тот день кроме Ницше и Бергсона никто не интересовал. Про Ницше, естественно, пели самые туповатые и восторженные, а про Бергсона претенциозные снобы. Модераторствовал профессор, которому на вид было столько лет, сколько люди не живут. Его интересовали две вещи: регламент и чтобы без мата.
Красивых девушек не было ни одной, а это верный показатель, что семинар фигня. Женская красота – это барометр значимости события, а если про интеллектуалов – это еще и показатель мудрости. Я знал женщин, которые кончали при виде нобелевского лауреата. Даже его медали.
Солнце хлестало в окна, кондиционер гнал вьюгу как в рефрижераторе, на желтых столах голубела вода в бутылках, и все человеческие проблемы сейчас представляли чисто теоретический, академический интерес.
На доклад полагалось пятнадцать минут, так что никакие это были не доклады, а сообщения. Но я уложился. Это две тысячи слов, а в две тысячи слов можно упаковать любую идею, если ты умеешь выделять главное. Так что я выступил ударно. Так ударно, что едва ли человек пять поняли суть. Остальные не догоняли.
Ну, с теорией моей вы знакомы. А если еще незнакомы, то и рассказывать незачем.
Начались пять минут вопросов и обсуждения. Вопросов нет. Все молчат. Пытаются переварить.
И тут встает один ухарь. Задорный такой, напористый. Из Кембриджского колледжа. Они в первые полторы тысячи по стране не входят. А в мире вообще за шестой тысячей. Простые ребята. Этот, судя по манерам, работает вышибалой и мечтает вырасти до бармена. Крепенький такой, кучерявый и злой, как некормленый.
Встает он и говорит:
– Ну и что?!
Если честно, я растерялся. Я такой вопрос в баре за пивом понимаю, перед дракой понимаю, а в философской дискуссии услышал впервые.
– В каком смысле, – спрашиваю, – «ну и что»?
А его заклинило. Есть такое понятие – «фрустрация». Он бы хотел учиться в Гарвардской школе бизнеса, иметь АйКью сто сорок и отца – владельца большой фирмы. А его шпыняют за тупость, и на лбу у него написано: «лузер». Из таких получаются отмороженные наркоторговцы и коммунисты.
Он повторяет громче и злее:
– Ну и что?!
Я говорю:
– Шестнадцать!
Он спрашивает непонимающе:
– Что – шестнадцать?..
Я и отвечаю:
– А что «ну и что»?
Его лицо искажается от умственного усилия. Потом от злости, что его заставили думать. В аудитории кто-то ржет. И он из этой ужасной своей деформированной рожи по кирпичам выталкивает фразы:
– Ну вот вы это все рассказали. Хорошо. Допустим, это даже так. Ну и что? Что из всего этого?
– Во-первых, – сказал я, – из всех философов мне более всего нравится Протагор, а из всего сделанного Протагором – как он хорошо увязывал дрова, когда работал дровосеком.
Парень наморщил лоб, и при этом у него приоткрылся рот – словно кожи хватало только-только покрыть лицо внатяг. Он думал. И я тоже думал, причем лихорадочно. Спикер не собирался мне помогать. По-моему, я ему не нравился. И он получал удовольствие от ситуации. Свобода слова, а как же. Прочие же откровенно развлекались – философия в этот день была скучная, прямо скажем. Они надеялись понять меня лучше в ходе этой неординарной дискуссии. Когда выкручиваешься после вопроса дурака – всегда переходишь на язык детской энциклопедии. Тогда и докторам философии все понятнее становится.
Куда как быстро соображаешь, чтобы ответить дураку перед толпой. Я раньше-то для себя ведь не думал «ну и что». Ни один ученый не думает: «Ну и что». Ликовать и стричь бабки или раскаиваться он будет потом. А пока у него просто захватывает дух, что он придумывает нечто новое, небывалое, потрясающее, и у него классно получается!
– То есть вы хотели бы от меня услышать, какие могут быть практические последствия и выводы из моей теории? – спросил я. – Что из этого всего может выйти? На что это может повлиять, как это использовать и что это может вообще в жизни изменить – хоть в жизни человечества, хоть в развитии какого-то философского направления. Я правильно вас понял?
– Именно! – надавил он со снисходительным презрением к тупоумному мне, не понявшему его сразу.
– Следствий довольно много, и все они важные, – сказал я. – Первое. Это означает, что человечество не стремится ни к счастью, ни к созиданию, ни к справедливости, ни к знанию, а также ни к гармонии, ни к любви. То есть все перечисленные стремления безусловно существуют. Но они отнюдь не самоцели, не самоценные величины. Это все эпифеномены, сопроводительные явления.
Стремится же человечество – объективно, в силу природы, по устройству Мира, помимо своего сознания – к совершению максимальных действий. То есть: к захвату, переработке и выделению все большего и большего количества энергии окружающего Бытия, окружающего энергоматериального пространства.
Второе – и самое важное для нас. Это означает, что все и любые попытки «улучшить», «усовершенствовать» человека в сторону рациональности поведения, в сторону гармоничного комфорта его существования, так сказать – ошибочны и обречены на провал. Все коммунистические идеологии и теории всех мастей исходят из примитивного антропоцентризма. Они сводят предназначение человека исключительно к его, человеческому, благополучию. Полагая существование человечества во Вселенной излишней и временной случайностью. Вот эту научную и, более того, умственную ограниченность мы должны преодолеть и отбросить.
Третье. Осознание места и роли человечества во Вселенной – позволяет нам осознать сущность прогресса и адекватно к нему относиться. Сущность прогресса не в том, что человечество обязательно достигнет счастья, гармонии и справедливости – но в том, что природопреобразовательная деятельность человечества от начала его существования постоянно нарастает – и конца, границы, предела этому росту принципиально не существует. Это и есть суть прогресса. Это и есть объективная, Вселенская суть существования человечества.
Четвертое. А поскольку психологическая мотивация действий человека основана на неудовлетворенности существующим, что есть исходное и дежурное состояние человека, обуславливающее постоянную переделку мира – то: не будет вам, граждане, гармоничного, вечного и единого социального мироустройства. Социумы будут зарождаться и восходить, падать и гибнуть. Существование утопического государства – то есть социально уравновешенного и соответствующего раз и навсегда определенным потребностям человека – невозможно в принципе. Социальное устройство любого общества было, есть и будет основано на одном базовом уровне: как можно больше потреблять, перерабатывать и производить.