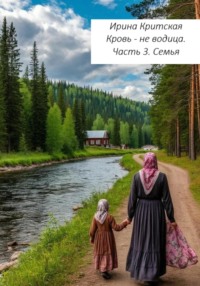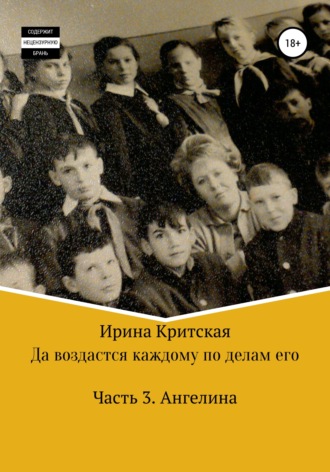 полная версия
полная версияДа воздастся каждому по делам его. Часть 3. Ангелина
– Что глядишь? Похож на отца-то? Все говорят -одно лицо.
– Рай! Ты как здесь? А муж?
– А, золотая. Не может цыганка в клетке, удушила жизнь такая почти. Это не надень, так не скажи, этого не ешь. Не, не могу! И город тянет, томит, прямо за горло держит. Больница эта…боль… смерть. Нет! Мне вот здесь вольготно, в степи. Тут мой дом. Останусь уж, наверное, совсем, судьба велит.
Она поправила Вовке воротничок шелковой рубахи, пригладила ткань на пузе.
– Да и дети здесь, что, на мать их всех? Сноха вон не особо за чужими, русская, что взять с нее. А мать еле ходит. Помрёт, похоже скоро, туда смотрит…
– Тьфу на тебя, Райк. Болтаешь.
– Что прятаться от правды. Прячься, не прячься… Ладно.
Она помолчала, грустно и долго посмотрела Геле в глаза.
– А ты? Что дом наш обходишь? Плохое думаешь? Иль чужая стала? Вон вижу, радость у тебя, в тебе она, светлая. Ждешь.
Райка бросила взгляд на Гелин живот, но быстро отвела глаза, как-то странно, как птица.
– Я зайду, – Геля улыбнулась, – Погадаешь? Скажешь кто там, и какой он?
Рая глянула прозрачным взглядом, мимо -в сторону, вроде не поняла.
– Зайди, поболтаем. Ирку веди, вон они с Вовкой, как дружат. Она вон у тебя какая – на деревце стройное похожа и на тебя. Да и Тамаш.. будет рад… Вон он, как на нее глядит, – она тоже улыбнулась в ответ, – А гадать нет. Не буду, уж не взыщи. Разучилась.
***
Огромный арбуз, размером ровно с полубочки, воодрузили на дворе на столе, еле запихнув его в таз для варенья. Прибежали Галя с дочуркой —маленькой Ленкой, круглой и толстенький, как пушистый шарик, в расшитом одуванчиками сарафане. Сарафанчик был чуть маловат, и на пухлой белой грудке шубутной девчонки перекашивался, открывая то одну, то другую розовенькую сиську. Ленка быстро прилепилась к Ирке и хвостом бегала за ней, не отставая ни на шаг. Тетка Таня прибежала последняя, как всегда натащила целую корзину пирогов, и, хитро посверкивая глазами-вишнями, выудила большую темную бутыль.
– Вино. Сама вот наделала, вишенное. Сладкое, как варенье. Девки, стаканы несите, не одним им, архаровцам, бабкин самогон хлестать.
Она взгромоздила бутыль рядом с арбузом, разложила пироги, отошла, цокнула языком, любуясь.
– Красота. Мам! – крикнула она в сторону кухни, где суетилась Пелагея и через минуту она уже вылетала из кухни с котелком дымящейся картошки, а сзади семенил дед с таким ножом, что им можно было перерубить арбуз пополам – одним махом, без усилий, – Мам! Сливки тащи.
– Теть Тань. А Лина – что не идет? Все собрались же. Вечно она позже всех, – Геля и не то чтоб очень хотела видеть невестку, но так… для приличия спросила.
– А! Кукла эта? Все перед зеркалом крутится. Пузо уж до подбородка, а туда же. Красота наша неписяная.
Тетка пренебрежительно говорила о снохе, и Геля всмотрелась в нее повнимательнее.
– Пузо? А Борька знает?
– Да что ж. Знает. Он вон, как кроль, про десяток таких знает. А Линка злится. Тьфу, паразит, усатый, не пишет ей уж месяц. Она перебеленилась совсем, посуду колотит. Вроде я виноватая.
Тетка с грохотом шарахала тарелками по столу, потом поймала Ленку, пригладила ей косицы, запихнула сиськи под сарафанчик и вытерла нос. Отпустила, хлопнув по толстой попке.
– Какие -то вы суматошные со своими любовями, Заняты мало, видно. Делать нечего, в городах ваших, на готовом всем. Вот и дурИте.
Наконец явилась Лина, она действительно была – ну очень беременна. Огромный живот под шелковым ярко-голубым платьем в ромашку, казался необъятным. И высоко взбитая белокурая хала на голове, ярко – розовые, перламутровые губы и крупные клипсы – шары, делали ее похожей на нарядный танк. Веселая суматоха продолжалась бы и дальше, пришли мужики – Толя, Иван и Галин Володя, все что-то кричали, стараясь переорать друг друга, носились дети. Но тут деду надоело, он встал и бабахнул по столу половником.
– Цыть оглашенные. Давайте- ка к столу, сидайте. Мать заждалась зовсим.
Легкий ветерок, вернее его предвкушение в начинающемся вечере принес аромат флоксов и мыльников, истомленных жарой. Все здорово поддали, петь уже устали и сидели грустно, утомленно. Тут дед, наконец, подвинул к себе арбуз. Точным, ловким движением он вонзил нож в толстую полосатую корку. Арбуз хрипло крякнул, развалился пополам, и плотный, ярко-алый, зернистый волчок сверкнул в заходящих лучах бриллиантовым, сахарным блеском.
***
Ходить на реку Геля любила ранним утром, она всегда старалась полоскать белье именно в это время. Тихонько, пока все спали, она выбиралась со двора и пробежав через залиты нежным солнышком огороды, спускалась к мосткам. Что-то колдовское было в этом нежном свете, в запахе только что вынырнувших после ночного сна кувшинок, в тихом кряканье полусонных уток, которым еще было лень высматривать еду, и они дремали, засунув крашеные разноцветными красками головки, под крылья. Тихое солнце еще не жгло, а гладило открытые плечи. Геля долго сидела на мостках под черемухой, болтая ногами в по-утреннему прохладной воде. Потом встала, распрямилась, собираясь полоскать, но сзади кто -то начал спускаться по лестнице, и она заскрипела от тяжести большого тела. Геля обернулась.
У Лины, стоящей сзади, было жуткое лицо, бледное до синевы, вчерашняя помада, которую она не стерла, размазалась, волосы рваными космами распустились по плечам. В руке она держала письмо.
– Ты? Это ты, дрянь, их свела? Сводня, гадина. Зачем ты их познакомила?
Лина кричала тонким птичьим голосом и совала Геле в лицо мятый лист.
– Это он тут, в письме этом поганом, братику своему любимому похождения описывает. С этой – твоей профурой, шалавой интернатской, Веркой. А ты знала, гадюка. Знала! И мать знала, проклятая. И твоя знала, тетка Анна эта, мороженая. Ненавижу вас!
Геля обалдело вздрагивала на особо высоких нотах и пыталась поймать руку с письмом. Но Лина тыкала резко, вставив пальцы, как будто старалась попасть в глаза. Слезы смешивались с нестертой тушью и розовой помадой, превращая ее лицо в дикую разноцветную маску. Вдруг она развернулась и бросилась к лестнице, но, под ее большим телом подломилась нижняя хлипкая ступенька и, она медленно, как в замедленном кино, свалилась с мостков в воду. Геля с ужасом смотрела, как медузой распускаются по воде светлые волосы, и вспомнив, что Линка не умеет плавать, бросилась в воду.
***
– Наконец успокоилась. Вишь ты, что делается. Я этому засранцу сама яйца поотрываю, вот только явится, поганец.
Тетка Таня была зла, как фурия, и, подтыкая одеяло под спящую мертвым сном сноху, аж шипела змеей.
– И тебе бы врезать, ты куда смотрела? Знаешь же, что Борьку хлебом не корми, …..ь ему эту подсунула.
– Теть Тань…
– Молчи уже. Небось делилась с тобой секретами своими про… ими. А ты потакала.
– Теть Тань! Мне в голову не приходило!
– Ладно. Давай – иди уже, сама переоденься, вон с лица спала. Обойдется. Сам приползет прощенья просить. Котяра драный. Подзаборник.
Во дворе Гелю догнала Галя, молча забрала таз с бельем.
– Гель, все образуется. Ты что – ревешь?
– Галь, мне стыдно, это ужас. Вовке не говори, ладно?
Геля остановилась, чувствуя, как слезы уже почти душат её, отвернулась к сирени. Ей вспомнилось, как она всегда пряталась в этом огромном, старом, пыльном кусте, когда ей было плохо, и, сидя на изогнутом стволе, пересиживала беду, зализывала раны.
– Прям хоть сейчас туда, забиться и не вылазить дня два, – она даже улыбнулась сквозь слезы своим мыслям, и в этот момент жуткая боль скрутила ее в узел.
Эпилог
Разноцветные шары кружились в облаке пыльного света, танцуя под чУдную музыку, которую раньше Геля никогда не слышала. Их тона – розовые, голубые, бежевые, салатовый были нежными, почти стёртыми и еле угадывались. Глаза ей открывать совсем не хотелось, в теле расплывались теплые волны покоя и неги, и Геля жмурилась в потоках тихого света. Через полуприкрытые веки, через пушистые ресницы она видела тени странных созданий, то ли из сказок, то ли из снов. Большие и белые, с пушистыми крыльями, похожие сразу и на ангелов и на белых сов из Иркиной книжки, маленькие, взъерошенные и смешные с хохолками-кепками над курносыми носами и длинные, как жерди, серые, злые – все сновали туда-сюда, в точно выверенном ритме и растворялись в густом облаке полупрозрачных шаров. А на высокой сверкающей тумбе, похожей на резную хрустальную вазу, которую Геле недавно подарили от родительского комитета, стоял сутулый красивый старик в мохнатой телогрейке. Он, с видом дирижера духового оркестра размахивал тоненькими прямыми веточками, на каждой из которых гордо сияла золотая роза.
Геля, наконец открыла глаза и села. Аккуратно, со страхом пошевелилась, ожидая очередного удара в живот тем ножом, который до того резал ее долго и безжалостно, но боли не было. Она посмотрела на свои руки, без удивления подумав, что они стали очень белыми и нежными, потом встала. Длинная хламида из тонкого невесомого полотна укутывала ее полностью, но идти не мешала, и она тихонько пошла, боясь поскользнуться на скользком стеклянном полу. Никто не обращал на нее внимания, и только старик, на секунду прекратил свое занятие и искоса глянул в ее сторону, недовольно сморщившись. Геля шла по комнате медленно, и видела, как трансформируется вокруг нее пространство, то сжимаясь, то расширяясь. Светлые стены то вдруг становились невидимыми и становилось видно цветущий сад с деревьями, увешанными оранжевым плодами, то мутнели, сгущались, серели и комната становилась узкой, тесной, душной. А впереди она видела что-то похожее на обрыв. Даже не на обрыв, это выглядело так, вроде стеклянный пол обрубили чем-то грубым, неровно, а потом аккуратно отполировали острые края.
Кто-то тронул ее за руку.
– Ты чего тут? Кто звал? Сама?
Маленький человечек, похожий на большого взъерошенного воробья стоял рядом, и снизу, как собачонка, смотрел на неё круглыми голубыми глазами. Шелковый камзол топорщился по бокам, видно он напихал что-то в карманы, кепка, расшитая незабудками, сползала на длинный нос-клюв.
– Без спросу нельзя. Тут по приглашениям., – он почесал ручкой затылок, еще больше сдвинув кепку, – или ты по Любви? Любишь Его?
Геля молчала, она чувствовала любовь, но не понимала, о чем толкует воробей.
– Не. Еще рано.
Воробей порылся в набитых карманах.
–Шарик хошь?
Он протянул Геле маленький пушистый шарик, который на глазах раздулся раз в пять, превратившись в белое облако. Воробей свернул его, как махровое полотенце и сунул Геле под мышку,
– И давай уже, дуй отсель. Пошли что покажу.
Воробей подвел Гелю к Краю, свесил вниз нос и показал что-то пальцем:
– Гляди…
И когда Геля наклонилась, он с силой толкнул ее в спину…
***
– Почему у него такие красные глаза? Песок что ли попал…Говорила тыщу раз – не ныряй в запруду, это тебе не моря твои. Никогда не слушает.
Геля сквозь пелену вглядывалась в Володино лицо, а оно отдалялось, становилось маленьким, незнакомым. Он сидел на стуле у кровати и держал ее за руку, крепко, почти больно.
– Вов…пусти…рука затекла, – проныла Геля своим самым противным голосом, и удивилась, что лицо Вовки вдруг просветлело. А ведь всегда обижался на этот тон.
– Ну что? Очунелась?
Тонкий, резкий голос за Вовкиной спиной резанул, но именно от него Геля окончательно пришла в себя, и увидела все четко, словно проявилась мутная пленка.
– Руку давай, колоть буду, – медсестра, быстрая, верткая вцепилась ледяными пальцами в Гелину руку и больно воткнул иглу, – Везучая. Другие помирают, а ты вон – румяная лежишь. А мужик у тебя… С ума сойти! Неделю к стулу как приклеенный. Бывает же.
Геля вдруг все вспомнила. И понимание того, что случилось, заставило ее зажмуриться, сильно, до ломоты в глазах
– Гель… все обойдется. У нас жизнь впереди, держись, маленький.
Холод внутри, который откуда не возьмись взялся, заклубился облаком где-то у сердца, выстудил и успокоил. Она смотрела в Володино лицо и думала:
– Кормить надо, похудел. И плачет. Надо же… Никогда не видела, как он плачет. Некрасиво. Как пёс…
– Кто был, Вов? Мальчик? Девочка? – Она со стороны слушала свой спокойный, незнакомый голос.
– Не знаю, Гельчонок. Не знаю, – Володино лицо покраснело, он отвернулся, пряча враз набрякшие глаза и хрипло сказал в сторону, – Я сейчас, на минутку, – и вышел в коридор, сгорбившись, как старик.
Медсестра, возившаяся в углу с громоздкой капельницей, бросила.
– Парни у тебя были. Двойня. Главное сама жива. Еще родишь.
Геля спокойно посмотрела на неё и отвернулась к стене…
***
– Я-то сделаю, отговорю тоску. А ты сама дале, без тебя не выйдет ничего, ты вон синяя аж.
– Сделай, Рай. Я не верю в это, но сделай. Богом прошу.
– А ты и не верь, зачем тебе верить? Тебе и не надо.
Свечи, льющаяся вода, звуки и запахи гари и чего-то ещё, сладкого, сначала для Гели казались сном, но постепенно все прояснялось. Холод спасительный и щадящий вдруг начал таять и на его месте возникла, сжала, стянула щемящая боль. Такая огромная, что не поместилась внутри и выплеснулась волной обжигающих и освобождающих слез.
***
– Осень опять. Красиво…
Геля смотрела в окно на подросшие деревья, посаженные Вовкой, они были ярко-желтыми и красно-огненными. Наконец, все успокоились, разобрали вещи. Вовка включил футбол, Ирка возилась с портфелем.
– Завтра в школу… Господи! Как же я туда хочу!
Она встала, достала чемодан с антресолей, запихнула туда Борькины вещи, открыла окно. И аккуратно, стараясь не повредить кусты, выбросила его на асфальт.