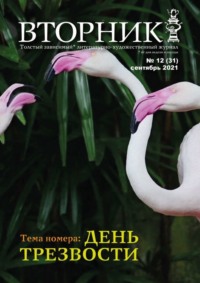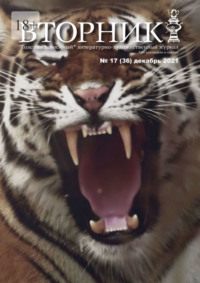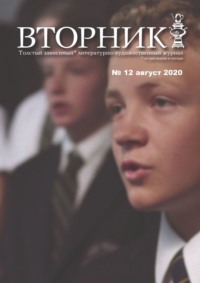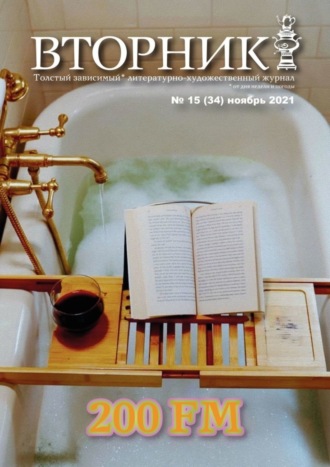
Полная версия
Вторник, №15 (34), ноябрь 2021
– Ты куда собралась, и что за вид такой? Откуда у тебя дырявые джинсы?
– Чем они тебе не нравятся? – Сайера вызывающе расправила плечи, заправила прядь волнистых каштановых волос за ухо и прижала руку со скейтбордом вплотную к правому бедру. – Я, между прочим, долго эти джинсы искала.
– Иди переоденься или никуда не пойдёшь, – скомандовала Зуля.
– Почему это? – в больших чёрных глазах дочери сверкнула искра. – Только не надо говорить: «потому что так сказала». Объясни лучше, что не так. я
Как всегда в подобных случаях, Зулю, которая даже в свои сорок два года не позволяла себе такой тон с родителями, распирало от возмущения и боли. Она бросила бумаги на стол, встала, выпрямилась, подтолкнув вверх круглую оправу очков.
– Как ты со мной разговариваешь?! Я – твоя мать, забыла?
Сайера сделала глубокий вдох и выдох. Её плечи под голубой майкой, заметно более широкие и крепкие, чем у матери, поднялись и опустились в воинственном сосредоточении. Зуля поймала себя на мысли, что даже сквозь нарастающий гнев она подмечает красоту дочери, восхищаясь её ладненькой фигуркой, пластичными движениями и длинными ресницами, почти что касавшимися густых и будто нарисованных бровей.
– Это не причина! Объясни, почему мне нельзя выйти на улицу в этих джинсах? Весь мир в таких ходит.
– Мы – не весь мир. У нас свои порядки. Не подобает девочке-узбечке так ходить. Сколько раз я тебе говорила, люди не поймут!
– Какая разница, кто там что поймёт! Ты меня сама учила, что у меня должно быть своё мнение, своя позиция. Вот тебе, пожалуйста, моя позиция! Мне нравится, как я в этих джинсах выгляжу.
– Но где твоя скромность, благочестивость?
– Ты это серьёзно? Ты ездишь по миру, сама всё видишь, но при этом меня в средневековье хочешь оставить. Хочешь, чтобы я проглатывала всю чепуху, которая в меня летит, только потому, что я – девочка, которая, видите ли, должна быть скромной? Почему я должна быть скромной, почему не могу быть такой, какая есть?
– Да потому, что в этом и суть женской красоты, загадки. Ты думаешь, ты смелая и всезнающая, но ты уже не маленькая девочка, а расцветающая девушка. За твою протестность тебя уважать не будут.
– А я не ищу ничьего уважения, в отличие от тебя! – её стремительно терявшие детскую пухловатость гладкие щёки покраснели. – Мне бы уважение к себе не потерять. Боюсь, что твои советы именно к этому и приведут!
Сайера отвернулась и, несмотря на строгий оклик матери, вышла из дома, громко хлопнув дверью.
Ночью того дня Зуле снилась рулетка, запущенная рукой не человека, а будто скульптуры, по цвету и твёрдости напоминавшей каменный уголь. Когда вращение прекратилось, стрелка указала на маску из того же твёрдого материала, из какого была рука, и такого же тёмно-серого, почти чёрного, цвета. На маске возвышался парик, первым слоем которого было гирляндоподобное верёвочное сплетение салатового цвета. Вторым – пышный венок из розово-оранжевых искусственных роз. Зуля видела эту маску в магазине в цветочном парке в Амстердаме.
Равнодушие и холод пустых глаз маски заставили её сердце волнительно биться. Цвета на парике, хоть и были приглушёнными, тем не менее сильно контрастировали с тёмно-пепельным цветом «лица». Контраст пробудил в Зуле чувство жуткой дисгармонии. Смягчённые тона парика отдавали светом и свежестью, создавая иллюзию, что жизнь благоволит Зуле, в то время как пепельная маска была не столько лицом смерти, сколько выражала нечто пострашнее, а именно, неспособность жить, будучи живой. Как угольки под погасшим огнём, душа в маске погасла и окаменела. Маска приближалась вплотную к лицу Зули, которая выставила вперёд руки, чтобы остановить её, но та продолжала движение – сквозь руки. Маска закрыла лицо Зули и стала им.
Зуля в ужасе проснулась. Умылась, позавтракала, в компании утренних новостей, и собралась на работу. День начался, и, казалось, ночной кошмар позади. Но разве сны не правят реальностью? Уже с обеда Зулю не оставляло ощущение, что люди, наделённые даром видеть жизнь насквозь, заприметив Зулю, ужаснутся, когда увидят шагающую по земле женщину-манекен с пустыми глазницами вместо искрящихся глаз. Тёмное дымчатое покрытие лица-маски – это цвет правды о годах, пробежавших по первой половине жизни с быстротой и беспощадностью лесного пожара.
Отчего по её душе прошёлся пожар? Что вызвало искру? Смотря на мир из-под новой маски, Зуля напряжённо размышляла об ударившихся друг о друга камнях, вызвавших искру. Первым камнем была её природа, страстность и мечтательность которой сдерживались серьёзностью, рассудительностью и чувством ответственности. Зуля всегда могла расставить всё на чаши весов, на которых «я» было только одной из гирек. Вторым камнем было воспитание родителей и окружающего мира, учивших её жить «правильно». Только в зрелости она ощутила тяжёлый многослойный груз этого неоднозначного слова, которое, как рампа на сцене, с одной стороны, освещает и помогает вершить добро, но, с другой, лишает света и погружает во мрак актёра, отказавшегося следовать правилам театра жизни. Жить «правильно» – значит жить «по правилам». Как снег при пурге, правила сыпались на неё отовсюду, и страх остаться на вторых или третьих ролях, а то и вовсе на задворках театра, толкал её на действия, которые отец одобрял как «разумные решения». Только сейчас Зуля осознала, что разум, к которому все взывают как к верховному судье, соткан из страха.
В страшной маске с пустыми глазницами Зуля увидела себя. Её жизнь – это искусственные розы на парике. Если бы не искра двух камней, кем была бы Зуля, в какие красочные края занесло бы её душу, кто ласкал бы её сердце, на языке каких красок и звуков она разговаривала бы с собой? Куда завело бы Зулю воображение, легко пробуждающееся, но с той же лёгкостью и подавляемое разумом, боящимся потерять главные роли в театре?
Крылись ли ответы в словах отца, чьим советам она безукоризненно следовала? Зачарованная любовью и уважением к отцу, Зуля не отступила ни от одного его напутствия. Будучи крупным учёным-химиком, он ценил образование, не разбрасывался словами, старался доказывать тезисы, а не просто их констатировать. Направляя на дочь напряжение своих крупных, с монголоидным изгибом по краям, тёмно-коричневых глаз, отец часто рассуждал о важности думать «глубоко и серьёзно», о том, что жизнь сложна, а потому любой вывод и решение требуют баланса противостоящих друг другу аргументов. Жизнь тяжела, особенно для женщины и «особенно у нас», повторял он, и Зуля должна быть «умна и сильна вдвойне». Зуля превращалась в маленькую девочку в разговорах с отцом и послушно впитывала мудрость этих слов, с неисчерпанным любопытством рассматривая его белые и могучие скулы, большой широкий лоб, прорезанный двумя глубокими морщинами, и мелкие кудри на чёрных с проседью волосах, доходивших почти до плеч.
Чем старше Зуля становилась, тем легче ей было мыслить образами и картинами. Образ отца, гордо объявлявшего, что о лучшей дочери он и мечтать не мог и что Зуля «воплотила в жизнь все его идеалы», был предсказан двумя веками ранее Уильямом Блейком в гравюре «Ветхий днями». Эхо отцовского голоса, ударяясь о дно её сознания и отскакивая от него бесформенным шариком, похожим на клубок дыма, обретало чёткие контуры, наполняясь красками, и превращалось в гравюру Блейка. Отец был для неё тем старцем с длинной белой бородой и седыми волосами, развевающимися от ветра сил невежественной тьмы. Он сидит в тёмном бронзово-оранжевом кольце солнца, чьи грязно-жёлтые лучи борются с толстыми, будто поддутыми, мрачными облаками, плотно окружившими солнце. Опустившийся на колено голый старец, смотря вниз, направляет сильной рукой большой белый циркуль, прорезая шипящую темноту треугольником научного познания и правды созидания.
Эта картина окрашивала душу Зули в тёмные и мрачные, а если местами и светлые, но всё же мучительные цвета. Призывая серьёзно мыслить, отец тем не менее опасался, что любознательная дочь откроет окно познания настолько широко, что легко из него выпадет и, барахтаясь в невесомости, потеряется в тёмной непредсказуемости жизни. Вдохновлённая книгами, её мечтательно брошенная ремарка: «А почему бы мне не стать писателем?» – была вычеркнута натиском отцовских слов о том, что «это незрелые мысли», что ей нужна «серьёзная профессия», которая позволит Зуле «твёрдо идти по жизни, развить крепкий характер и острый ум, ни от кого не зависеть и дать отпор, если надо».
Как получилось, что сила ума и познания, к которым был обращён внутренний взор Зули, привела её к пустоглазой маске на лице? Неужели блейковский старец ошибся? Она вроде нашла свой циркуль и держала его не менее крепко, чем старец. Циркуль оказался мощным орудием борьбы с людьми, расшифровки их умов, слов и поступков, эффективным инструментом понимания жизни видимой, осязаемой и текущей. Но мрак её души циркуль осветить не смог. Прорезанный на картине незаконченный треугольник всего лишь расчерчивает дистанцию пробега ума и не способен охватить горизонты дремавшего в Зуле воображения. Циркуль – не кисточка и не музыка, краски и ноты которых пробудили бы её душу, да и не цветы, среди которых Зуля нашла бы свой аромат.
До последнего времени работа с циркулем её вполне устраивала. Зуле казалось, что она нашла своё предназначение, подтверждаемое успехом и уважением окружающего мира. Но, главное, благодаря циркулю она могла дать всё самое лучшее Сайере, чья жизнь, красота и счастливая улыбка были для Зули подлинным объяснением смысла её собственной жизни. Сайера была для Зули почти всем, чем один человек может быть для другого: объектом всепоглощающей любви, а значит, и источником сил, света и радости, в которых так нуждалась Зуля. В Сайере Зуля надеялась увидеть отражение себя – настоящей и полноценной, той, которой не удалось вписаться в рамки земной жизни. Зуля ожидала, что всё в них, матери и дочери, будет единым и гармоничным: от мелодий их сердец до тропинок умозаключений. Но участившиеся споры и скандалы с дочерью крушили её ожидания, отчего Зуля рассыпалась. Пусть споры были по мелочам, но для Зули эти мелочи были тихим громовым раскатом, предвещавшим шторм и молнию, которые расколют единство между ними и обнажат бессмысленность прожитых лет, очерченных одним лишь белым циркулем.
Ссора из-за рваных джинсов всколыхнула эти чувства с новой силой. Зулю не покидало ощущение, что ещё пару лет взросления и десяток ссор по более серьёзным вопросам и Сайера сможет закрыть дверь между ними по-настоящему плотно. Первым порывом было броситься за дочерью, затащить её домой и влепить по полной. За ним последовал другой порыв: дождаться дочку, усадить её рядом с собой за столом и за пиалой чая спросить, погладив дочь по волосам: «Ведь ты не имела в виду всего сказанного? Ты же меня любишь, правда?» Но Зуля знала, что ни на то, ни на другое она не решится. Первый порыв требовал истеричности, искоренённой самоконтролем и внутренней культурой. Второму порыву перекрыли дорогу обида и гордость.
Натянутая на её лицо маска – отголосок пустоты и нераскрывшейся женской души – говорила о том, что единственное спасение – это не гнаться за пониманием дочери, а, пока не поздно, погнаться за собой, спрятанной в глубине тёмной пустоты глазниц. Но как начать поиск? Стоя в домашнем кабинете, она обратила взор на книги, которые напомнили ей о когда-то любимой литературе, сочинениях, рассказах и дневниках, которые школьница Зуля страстно писала.
* * *
Зуля смотрела в окно на белые цветочки на ветках вишнёвого дерева. Такая же вишня, наверное, расцветала весной перед домом из глиняного кирпича, выкрашенным в белый цвет, в котором около полутора веков назад жил Ибрагимбек, невысокий крепкий местный богатей, один из самых уважаемых людей в махалле. Мысли Зули затерялись в красоте вишнёвого дерева, и она совсем забыла о себе, погружаясь, как в воду, в краски и свежесть весны. Пальцы же зажили отдельной жизнью и застрочили по клавишам.
«Стоя на крыше дома, осматривая улочки махалли, вдыхая восхитительный весенний аромат сирени, роз и свежей зелени и наслаждаясь цветами вишни и айвы, Ибрагимбек прошептал: «Слава Аллаху». В своих мыслях он благодарил Аллаха за всё: за то, что тот дал ему жизнь, за блага, приносившие радость его семье и позволявшие Ибрагимбеку помогать людям, что доставляло ему радость, за способность слышать запахи весны и видеть её краски, за воинственные выкрики петухов, умиротворявших душу Ибрагимбека, и за то, что родился он именно на этой благодатной земле, где правит мудрость и солнце, терпение и песок, где как нигде ценится вода, а потому и жизнь, где не страшатся скоротечности человеческой жизни, потому что в могуществе гор и тишине пустынь видят и слышат бесконечность предназначенного им пути и необъятную любовь Творца к красоте.
Ибрагимбеку было как никогда спокойно от мысли, что раз мир так красив – а за красотой стоит любовь Творца, – то должно быть за , что есть в мире, в конечном счёте стоит любовь Всевышнего. Раз так, то на этот мир можно положиться. Морщинистое лицо Ибрагимбека расплылось в улыбке, и он несколько раз пригладил чёрную с пробивающейся проседью длинноватую бородку, сужавшуюся в волнистый треугольник под острым подбородком. Ибрагимбек продолжил то, зачем поднялся на крышу. Он вновь взялся за лопату, зачерпнул влажные золотые монеты из глиняного кувшина и, потрясывая лопатой, осторожно рассыпал монеты по крыше. всем
– Ас-саляму алейк! – услышал Ибрагимбек приветствие.
Посмотрев вниз, он увидел Хикмата, соседа по махалле, живущего неподалёку. Как обычно, Хикмат был в чёрной тюбетейке с простым белым узором и длинной туникообразной рубахе.
– Ва-алейк с-салям, Хикматжон! – ответил Ибрагимбек, оперевшись на лопату. – Что это вы такой грустный? Посмотрите, какой день замечательный.
Обратной стороной ладони Хикмат вытер пот с узкого лба, а потом большим пальцем прошёлся по редким бровям.
– Э-э, Ибрагимбек-ака, как тут не грустить? Ничего у меня нет и работы не найти. Детей кормить нечем. Только Аллаха осталось молить о помощи. Совсем потерялся я, не знаю, что делать. Стыдно домой с пустыми руками возвращаться… Ладно, не буду жаловаться. У каждого своя судьба. Что вы на крыше делаете с лопатой?
У Ибрагимбека язык не повернулся рассказать Хикмату, что кувшины с золотыми монетами залежались в сыром подвале и пришла пора просушить монеты на солнце.
– Хикматжон, подойдите поближе к дому, – игриво скомандовал Ибрагимбек.
Когда Хикмат приблизился, Ибрагимбек скомандовал снова:
– А теперь рубашку вытяните вперёд, как скатерть или мешок.
Запрокинув голову и придерживая тюбетейку, Хикмат поморщился:
– Зачем, Ибрагимбек-ака?
– Не спрашивайте, делайте, как говорю, – добродушно махнул тот.
Когда Хикмат оттопырил подол рубахи, Ибрагимбек лопатой черпнул добрую горстку монет из кувшина и скинул их вниз:
– Держите, Хикматжон!
Хикмат не мог поверить увиденному. С крыши, а казалось, что с неба, на него посыпалось золото!
– Это что, что такое? О боже, неужели это золотые монеты? – запинаясь, бормотал Хикмат.
Он придерживал пойманные рубахой монеты одной рукой и, опустившись на корточки, другой собирал те, что упали на землю. Собрав все, Хикмат со слезами на глазах благодарил Ибрагимбека, обещая молиться за него до конца дней.
– Ступайте, Хикматжон, и начинайте новую жизнь. Пусть ваши дети больше никогда не голодают!
С того дня прошло пятнадцать лет. Многое изменилось с тех пор. Ибрагимбек уже не сушил монеты на крыше. Молился он чаще и стал набожнее, чем раньше. Всевышнего он продолжал благодарить, но благодарность теперь сопровождалась не безграничной радостью, как тогда на крыше, а растерянностью и непониманием. Что он сделал не так? Неужели он плохо поступил, поделившись монетами с Хикматом и открыв тому дорогу в жизнь? Как он, простой человек, а не провидец, мог тогда знать, что с ушедшей в помощь горстью золота, они с женой Каримой навсегда лишаться покоя и счастья?
Хикмат с умом распорядился золотом, накупил скота и за несколько лет разбогател. Расправив плечи, он прогнал жену и нашёл новую, молодую и плодовитую, в скором времени родившую ему троих детишек. Первую жену он прогнал вместе с их дочерью, а вот старшего сына Эркина оставил у себя. Правда, сына он поселил в хлеву в противоположной от основного дома стороне двора, чтобы тот не раздражал новую жену. Внимания Эркину никто не уделял и, когда ему стукнуло тринадцать, он сбежал из родного села. Бежал долго и мучительно. Наверное, умер бы, если бы его, потерявшего силы от голода и лежавшего без сознания на снегу, не подобрал добросердечный мужик, на телеге направлявшийся по зимней дороге в Ташкент, и не определил в детдом.
Через семь лет уже подтянутый, сильный, вполне образованный и дерзкий Эркин ненадолго вернулся в село, чтобы помочь брошенной матери и сестрёнке. Когда пришло время возвращаться в Ташкент, Эркин был в запряжённой гнедой лошадью телеге не один. С ним сидела молодая, такая же дерзкая, как и он, чернобровая красавица Малокат, дочь Ибрагимбека. Ни Ибрагимбек с Каримой, ни мать Эркина так никогда и не узнали, когда и где их дети успели встретиться и полюбить друг друга. Имело ли это уже какое-нибудь значение?
Неслыханный для всех поступок шокировал махаллю, ни один житель которой никогда ранее не слышал о такой дерзости. Как могло случиться, что молодая девушка, знавшая, что отец уже договорился о том, чтобы выдать её замуж за парня из хорошей семьи из соседнего села, не то что не получила благословения отца и матери, а, вообще, бросила их, сбежав из родительского дома и растоптав доброе имя семьи и девичье достоинство?
Перемалывая эту историю, жители махалли старательно избегали называть её имя, словно боялись о него обжечься. Не дай бог, прилипнет оно к языку и навлечёт на них самих этот немыслимый позор отречения от всего святого! На Ибрагимбека и Кариму все отныне смотрели с сожалением и презрением, держась от них в стороне. Никому такого горя не пожелаешь, говорили старушки, тем не менее не сомневавшиеся, что не спроста такое произошло. Подумать только, вроде добропорядочный человек Ибрагимбек, качали они головами, но не чли, значит, Ибрагимбек с Каримой у себя дома священных традиций. Иначе такого бы не случилось.
Эркин и Малокат спланировали всё быстро и умно. Поздно ночью, когда все дома уже спали и даже затихли летние сверчки, Эркин тихо свистнул три раза с небольшим интервалом между каждым посвистыванием. Сбросив с себя простыню, нераздевшаяся Малокат с заранее заготовленным узелком одежды и подаренными матерью драгоценностями выбежала во двор, отворила калитку и поспешила к ожидавшему её в темноте любимому. От шума проснулась Карима и, выглянув в окно, увидела то, что и в кошмарном сне не могла представить. Её дочь взяла за руку какого-то человека и в темноте полубегом удалялась от дома. Криком ужаса Карима окликнула дочь, разбудив мужа, вскочившего в страхе на ноги.
– Простите меня, мама! Я покидаю вас навсегда. Простите, простите! – это всё, что услышала Карима.
Выкрикивая имя дочери, Карима бросилась из дома во двор, а оттуда к воротам. Сонный и испуганный Ибрагимбек едва поспевал за ней. Выбежав на тёмную улицу, Карима уже не увидела силуэтов дочери и незнакомца. Ночная тишина содрогалась от удалявшегося стука лошадиных копыт. Карима ухватилась за оледеневшие щёки и прошептала:
– О Аллах, это невозможно, невозможно…
Несколько секунд спустя тишина разорвалась от исступлённого протяжного крика:
– Малокат, вернись! Малока-а-ат!!
Когда её крик, разбудивший многих в округе и блеснувший металлическим блеском бездушных звёзд, утонул в глухой темноте неба, Карима прошептала:
– Я проклинаю тебя, Малокат. Чтобы твои дети мира не знали и ты страдала так же, как и мне отныне суждено».
* * *
Зуля не заметила, как пролетел год с того дня, когда она начала писать этот роман. Человека так мало, а он вынужден жить так, будто он – многорукое божество, каждая рука которого тянется к чему-то своему, отличному от сфер, в которые погружены другие руки. Дела как-то делаются, но голова охвачена хаосом бегущих в разные стороны и требующих внимания вопящих мыслей, ничем не отличающихся от капризных малышей, безразличных к желаниям матери. Тем не менее самодисциплина помогла Зуле уместить написание романа в рамки жизни, очерченные напряжённым рабочим графиком и постоянным беспокойством о дочери. Роман вжился в неё, а она в него. Он захватывал внимание Зули, снижая внутреннее напряжение, и освобождал её от себя. Зуля неизбежно погружалась в мысли и чувства, радости и страдания каждого из своих героев.
Зуля забывала о себе в те ранние утра, поздние ночи или короткие отрезки выходных, когда ей удавалось работать над романом. Но она всё же улавливала присутствие себя на его страницах. Эхо голосов героев расходилось и растворялось в тишине сердца Зули, затаившегося благодаря их историям. Их слёзы текли по щекам Зули, а их мольбы и проклятия черпали ноты из всего лучшего и худшего, что было в ней, о существовании которых она раньше не подозревала. Оглушительное пульсирование таинств жизни и истории, подчинивших себе ритм писательского сердца, заглушало звуки её собственных переживаний, отчего она казалась себе песчинкой в бесконечности вселенной.
Одновременно с этими ощущениями роман представлялся Зуле собранием сказок, которые ночью рассказывают друг другу странники, распивающие чай возле костра в пустыне. Слышен вроде только голос рассказчика, но при этом каждый из странников знает, что сила сказки кроется не в её сути, а в способности сказки скользить, как смычок по скрипичным струнам, по дуновениям ветра, гоняющего сухой и охладевший песок, по тишине неба, пленённого звёздными сплетениями, и по невидимым паутинам бескрайности на песчаных волнах. Осознание того, что она, Зуля, и есть те струны – тот самый ветер, тишина и бескрайность, по которым скользят жизни её героев, – придало ей силы, возвышавшие её над собой, и приблизило Зулю к голосу истины, творцу неба, ветров и пустынь.
Не имея ни времени на обдумывание, ни опыта написания романов, Зуля просто писала, распахнув ставни сердца и воображения и позволив ветру творчества, сопровождаемому музыкой жизни героев романа, гнать их многоголосые и разноцветные истории, так же как ветер подгоняет упавшие с деревьев сухие листья в осеннем парке. Месяцами этот ветер кружил над жизнью сбежавших Эркина и Малокат и перелистывал страницы, где рассказывалось о силе характера Эркина, поднявшегося на верхушку общественной лестницы и об их с Малокат любви, подарившей жизнь четырём дочерям. Зуля писала о каждой из девочек, борясь с писательской неопытностью и не зная, как отдать должное каждой из них, раскрыв подробности их жизней, но при этом не утеряв единого течения романа. Зуля пошла незамысловатой дорогой, посвятив каждой из дочерей отдельную главу.
Надире, невысокой, смуглой, крепкокостной, с волевым лицом с царственным выражением и крупным округлённым носом, было уделено много внимания. Будучи старшей, она в сложные до- и послевоенные времена выполняла роль второй матери, своего рода третьего родителя. Её чувство ответственности было таким же обострённым, как и слепая вера в собственную правоту, и она требовала от всех, и уж тем более от сестрёнок, беспрекословного послушания. Сестрёнкам же не терпелось подрасти и встать на ноги, чтобы вылететь из трёхкрылого родительского дома.
Вторая дочь Лютфия, светлокожая, весёлая девушка с волнистыми каштановыми волосами до плеч, работавшая медсестрой в военном госпитале, влюбилась в посещавшего Ташкент русского офицера. Узнав об этом, родители и Надира устроили ей взбучку, приказав «выбросить дурь из головы». Эркин объявил, что «сейчас же займётся поиском жениха для неё, а то позора не избежать!». Через два дня Лютфия бесследно исчезла, не вернувшись домой с ночной смены. Эркин поднял на ноги все службы, но безуспешно. Только через неделю кто-то бросил им записку в почтовый ящик, написанную рукой Лютфии: «Простите меня, но по-другому нельзя. Мы полюбили друг друга, и я уезжаю вместе с ним. Если останусь, вы меня отдадите замуж, и тогда я умру. Не ищите меня. К тому времени, когда будете это читать, я уже буду далеко. Попросила знакомую бросить эту записку в почтовый ящик через неделю после моего отъезда. Прощайте».
За третью дочь Муниру, всего лишь на два года младше Лютфии и внешне удивительно на неё похожую, родители взялись крепко и бескомпромиссно. С ней ошибиться было непозволительно. Второкурсницу Муниру выдали замуж за «достойного», как казалось родителям, старше её лет на двенадцать обеспеченного мужчину, по словам Эркина, «знавшего толк в традициях». Эркин и Малокат, поддерживаемые Надирой, с которой они считались, не сомневались, что в таком браке у Муниры «всё будет хорошо, как положено». Кто знал, что на Лютфию Мунира похожа не только внешне, но и характером? Брак продержался всего несколько лет. Мунира сбросила с себя добропорядочного мужа вместе с почитаемыми им порядками, оставив ему их малышку-дочь. В родительский дом она не вернулась, как часто делали женщины после развода, а поселилась где-то за чертой города и нечасто общалась с отцом и матерью. Многие годы прошли то в стычках между нею и Надирой, призывавшей сестрёнку образумиться и пожалеть родителей, то в их отказе общаться друг с другом.