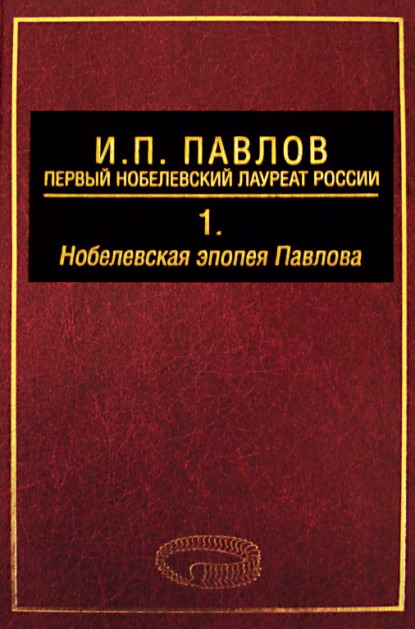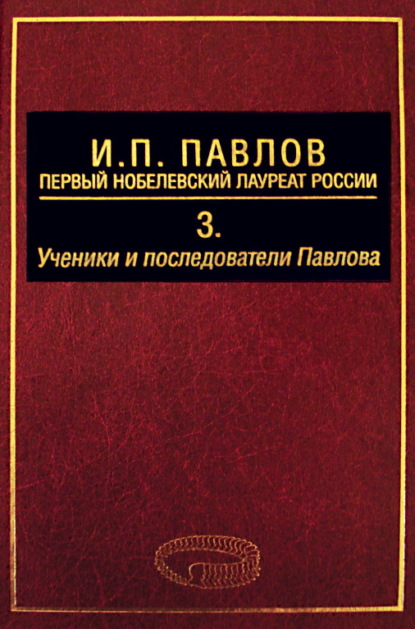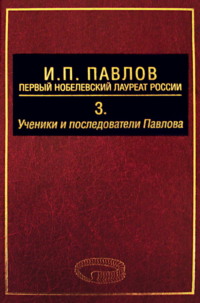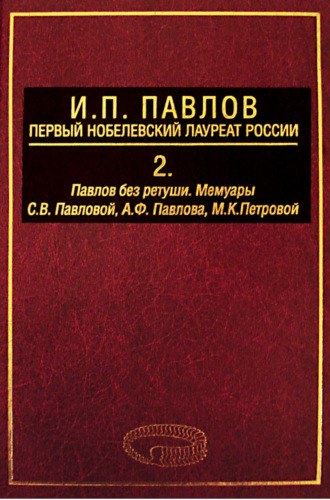
Полная версия
И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши
Вчера с Сережей (С. В. Карчевским – прим. сост.) я был на рубинштейновском концерте. И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки? Вот я все плачусь, каюсь перед моей Сарочкой. А о женушках говорят, что они любят сильных, властных, в себе уверенных. И относительно тебя разве не говорят, что тебе нужен муж твердый, с характером, уверенно, на свой страх, везущий колесницу супружеского счастья. Нет, я этого не могу, я все взываю к правде, к равенству. И вот: я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказывали мне: «Нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своей помощью, – правда». И почувствовал я к этой правде любовь страшную и вдруг сделался силен, когда будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни. Я пишу это и, узнай, Сарка, плачу с чего-то.
Горячо целую тебя.
Твой Ванька.
Пятница, 3 октября 1880 г. 12 ч. ночи
Мои нынешние утренние слова, вероятно, мною одолжены и вчерашней музыкой, я так давно не слышал ее. Но все равно. Эти слезы все же очень для меня дороги, как ясно вижу теперь. Они что оживотворяющий дождь для моей довольно-таки высохшей души. И причины всему – ты, одна ты, навсегда, глубоко любимая, моя Сара. Целую тебя. Да, я лучше становлюсь, т. е. больше чувством понимаю хорошее и теперь уже. И через тебя, моя милая. Мне верится сейчас больше, чем когда-либо до сих пор, что нас не обманут наши расчеты, наши надежды на нашу любовь, на ее возвышающую, облагораживающую силу. Мы будем, наконец, вполне свободны и мыслью, и чувством друг перед другом – и вместе понятны и дороги друг другу. Я вижу это ясно и в нынешнем твоем письме. То же сделаю и в моем. В твоем письме есть хорошие, дорогие мысли – и я буду пользоваться ими, как нашим общим достоянием, богатством. И я смело, не боясь, буду оспаривать то, что считаю нужным в том же письме.
Дело идет о типе работы: систематическая работа или порывами? Мне не ясно, рассуждаешь ли ты вообще или только о себе? Дальше: признаешь ли для себя работу порывами только фактом, которого не можешь изменить, или одобряешь ее и не хочешь другого? Но все равно: для меня это сойдется одно с другим. Поговорим сначала вообще. Мне кажется, что не может быть спора, что только систематическая работа жизненна не в смысле узком, а практическом, и как закон общественности. Что было бы, если бы профессор читал лекции, дожидаясь порыва, лекарь – стал лечить, адвокат произносить речи, лишь, когда бы приходила неведомо для них и всех, к которым они имеют жизненное отношение, минута вдохновения. Как ни охотник я представлять будущее, я не могу вообразить порядка, когда бы люди делали все лишь порывами. А если так, то, очевидно, люди должны стремиться к выработке в себе способности к ровному систематическому труду. Работа порывами есть нечто стихийное, не общественное.
Возьми теперь себя. Ты будешь учительница. Неужели ты будешь заниматься делом только тогда, когда ты расположена? Значит, могло бы случиться, что дети придут, а тебе совсем не до них – и ты пошлешь их назад. Ведь это не может быть. И тогда, если не хочешь, чтобы в эти минуты нерасположения твое дело не досадило тебе, тебе придется вырабатывать в себе ровную трудовую энергию. Милая, напиши, что ты надумаешь относительно этого. Мы как-то говорили об этом с Сережей, он согласился со мной. Ты скажешь: я не могу систематически трудиться. Но ты так молода, сильна и разве уж все испробовала в этом отношении?
Ты пишешь о нашем сходстве (которое меня так радует), что боишься его, и что только противоположности бывают счастливы вместе, что последнее из наблюдений жизни. Из чьих наблюдений: твоих, чужих?
Я не знаю этого положения об основе счастья. Оно вовсе не такое общепризнанное, вовсе не есть неоспоримая истина. Люди говорят разное: одни за сходство, другие за противоположное. Если это твой взгляд, ты должна была его мотивировать.
Ты пишешь о жизни без смысла и верь, я учусь у тебя и так глубоко думать, и так хорошо выражаться. Но ты прибавляешь: зато покойное, мирное, полезное счастье и довольство. Конечно, тебе этого покоя не надо, это ясно. Но не в этом дело. Милая, такого покоя, счастья, довольства и нет вовсе ни для кого. Разве этого кто-нибудь не знает и не страшится этого? Да и где это счастье без мысли! Я не видал его вовсе, когда ближе познакомился. Это невольное довольство, которое ты предполагаешь, эта обязательная улыбка при горьких слезах в душе.
Милая, как хорошо, дорого мне все, что написала ты о моей физиологической мысли. Ты одной строкой уяснила, усилила во мне, что было во мне только смутно. Да, да. Если не получу то, что хочу, то, наверное, захвачу много попутно. Как придает мне силы, уверенности твое предчувствие моего успеха в этой работе. Целую тебя.
Среда, утро
Плач Ярославны в военном мундире. Сидит Ванька в дежурной и воет.
О, прославленное Ванькино ротозейство! Если бы ты, милое, распорядилось так, что письмо от вчера или осталось без адреса или так опущено в почтовый ящик, что любопытствующий мог тебя вынуть (был случай с нашим письмом в Ростове) и унесть с собой.
О, дивные железные русские дороги! Чего вам стоит разбить один, один только вагончик, где едет это злополучное письмо.
О, широкий фантастичный русский почтальон! Не дай увять твоей репутации. Пусть знают люди, что ты не какая-то ходячая машина, а живое существо с любознательным умом и романическим сердцем. Не позабывай, что так уже бывало и не ты первый. Почти каждый день письма к барышне из далекого Питера, разве не понимаешь ты, что здесь не без романа – и разве не любопытно прочитать хоть одно письмецо, их же так много, и, наверное, в каждом из них все одно и то же на разные лады. И что за беда (?), раз не получилось письмо. Ну, догадайся, спаси, голубчик. Вскрой ты и уничтожь вчерашнее мое письмо.
О, милые дети, так усердствующие своей тете, выручите дядю, выручите, выручите! Вырывая из рук почтальона, вырывая из рук друг друга, разорвите или, по крайней мере, оторвите последнюю строчку из моего несчастного письма.
Поэтическое произведение должно быть прервано, потому что, оказывается, в здешнем почтовом ящике берутся письма в 8½ часов. Хотел было ехать в четверг, т. е. это уже было устроено; поручение твое, дурка Сарка, задерживает. Старательнейше целую за эти два дня мою Сарку и поклон остальным.
Твой Ванька.
Вторник, 7 [октября], 12 ч. ночи
…Не очень-то себя укоряй моим трудолюбием; больше все собираемся. Зато надежды, надежды! Мне ужасно любопытно вот что. Не помнишь ли: с чего тебе пришла мысль, что ты глупа для меня! Мне хочется потешаться над этим. Не будет ли справедливее, что я для тебя. Верь, Сара, я всегда мечтаю о твоем уме, как о чем-то ужасно хорошем.
Ты пишешь про Ивана Федоровича Карамазова. Позволь мне еще сказать о нем несколько, я ныне более в ударе, чем тогда. Может, что прибавлю, может, лучше изложу. Иван Федорович – это несчастная попытка ума все, природу, как и всего человека, забрать в свою область, все проводить через сознание, все разумом мотивировать. А разве это возможно? Где наука человеческой жизни? Нет ее и в помине. Она будет, конечно, но не скоро, не скоро. В ожидании ее человек живет, двигается всякими наклонностями, привычками, инстинктами. Они часто не только непонятными, даже нелепыми могут представиться уму с его теперешней ничтожной наукой – и все же ведут к удовлетворению разных потребностей познания человеческого типа. Возьми хоть нравственные чувства. Кто будет оспаривать их силу, их значение. И разве до сих пор не идут только разговоры об их рациональном основании? И так многое другое.
Неизбежный удел современного человека – жить во многом бессознательно, повинуясь только сердцу, влечению. И горе тому, кто будет настаивать только на уме. Он исказит, изуродует себя, запутается в усилиях ума. Он будет знать великие нравственные чувства, а в жизни без сердца будет элементарно ошибаться на каждом шагу. Припомни Великого Инквизитора, и какие высокие полеты нравственной мысли, и какая жизнь у одного и того же Ивана Федоровича. Интересно вот что. Это искажение, эта жизнь без сердца вырабатывается ли в наше время торжества разума, или уже дано в самой натуре? Достоевский, очевидно, думает последнее; оттого-то Смердяков и сказал, что Иван Федорович больше, чем кто-либо, Карамазов.
И опять вижу: плохо выходит. Оставлю до завтра. Может, поправлюсь. Что за странность, Сара! Прежде мне больше думалось, когда писал; теперь – наоборот. Я больше, лучше выясняю предмет, говоря. А в письме выходят какие-то обрывки. Ведь сам недоволен, вижу, что пропасти недостает, а как-то не хватает настойчивости все собрать и расположить как следует. Поцелуемся, моя милая, пойду спать с горя.
Твой Ванька.

Иван Тимофеевич Глебов, профессор Военно-медицинской академии
Четверг, 9 [октября], 8 ч. утра
…Ты сейчас или собираешься из Ростова, или уже встала в своей деревне, или уже совсем близко к давно желаемому делу, или за ним уже. Тебе весело, конечно, но может быть несколько и страшно, жутко. Обстановка, житье, одна-одинешенька, дело, которое ты все-таки берешь в руки только первый раз, – есть отчего и испытать этот страх, это волнение. У меня теперь одно средство против этого – это переслать тебе в этом письме горячий поцелуй, именно за этот страх, за эти волнения. Поцелуй – любовь. Чего же больше могу я? Помни, Сара, больше всего помни, что я самый тебе близкий человек и твое дело люблю как мое, как ты любишь его сама. Верь этому. Как я жду твоего первого письма из деревни! Еще раз горячо целую тебя, моя милая, дорогая Сара!
Сейчас надо идти в Публичную библиотеку. На ныне предстоит не совсем приятная работа. Я писал тебе как-то, что оставленные при академии врачи решили поднести сборник своих работ моему «деду» профессору Глебову62. Я тоже обещал. У меня есть материалы работы, давно уже сделанной. Я все откладывал печатать в мысли, что черт ее знает: работа первая, глядишь, пристрастно наблюдал, подбирал факты и т. д. И потому все собирался проверить ее. Проверить-то до сих пор не успел, и вот теперь приходится печатать. Будем писать и сомневаться. Одно утешение, что вся штука со сборником – форма лишь. Статья не будет переведена на иностранные языки, а потому всегда остается возможность впоследствии переделать работу, напечатать ее уж на немецком языке и таким образом науке дать то, в чем для тебя самого уж нет сомнения.
Суббота, 11 [октября], 8 ч. утра
…Дорогая Сара, чем достойнее соответственно могу отблагодарить тебя за то, что сделала для меня, чем я считаю себя одолженным тебе? Я конечно никогда не позабуду этого, ни того, что ты сделала, ни того, что связан с тобой вечной благодарностью. Ты возвращаешь мне утраченную было молодость. Я вижу каждый день, каждую минуту, как оживают, воскресают одни за другими в моей душе мысли, чувства, ощущения лучших годов.
Я снова верю в силу мысли, в торжество правды, в правду идеальной нормальной жизни… Верю не словом, но ощущениями в беспредельность развития, в неисчерпаемость, в вечную свежесть высоких наслаждений. Я верю в возврат навсегда той незаменимой несравненной молодости, над которой плакался в письмах к тебе позапрошлую вакацию. Это то, мечтою о чем только жил все это темное, горькое время упадка в моей жизни. О, теперь уж никогда не расстанусь с тобой, золотой период человеческой жизни, никогда не сделаю ошибки, через которую мог бы снова потерять тебя. Я всю жизнь мою посвящу тому, чтобы и другие ценили тебя и не разлучались с тобой!
И все это только через тебя, моя дорогая!
Как бы мог я когда-нибудь не любить тебя! Ты нераздельно связана с тем, чем буду всегда жить. О милые мечты! Спасибо вам! Вы не обманули меня, как и моя правда, светившая единственным огнем в прошлую теперь ночь моей жизни. Я снова люблю вас с тем жаром, с каким любил в те первые хорошие годы. Я опять и горячий, и уверенный ваш проповедник.
Дорогая Сара, наши отношения вступают неизбежно в новый период. Я буду писать уверенный, думающий, откровенный. То, что было, – это не то. Ты меня увидишь таким, каким я хотел до сих пор быть, но все не мог… И потому прочь между нами все мелочи, все шаблонное. Да, мы должны улучшать, совершенствовать друг друга – ив этом успехе нашем только и должны быть: наша радость, наша обязанность, наш вопрос, наша цель. Я получаю, наконец, способность думать о наших отношениях – ив моей голове несколько уже слагается известная картина их. Пусть ее зреет, уясняется. Готовую мы подробно ее рассмотрим и сознательно отбросим все то, что опирается на слабости мысли, на нехороших влечениях нашего сердца. Только правда, абсолютная правда, без утайки, без ограничений! Только она одна – средство к человеческому счастью. Все остальное – о, как жалко! Человеку ли хитрить? С нею он – [слово пропущено – прим. сост.], без нее – невыразимая ничтожность.
Сжимаю тебя в моих руках и целую без конца, моя незаменимая!
Твой Ванька.

И. П. Павлов. На обороте фотографии подпись: «Мунь-муничке Пуль-пуличка. 1880, июня, 18»
Пятница, 17 [октября], 8 ч. утра
…О людях, о школе потолкуем, будем говорить много после, когда и ты больше узнаешь, и меня лучше познакомишь. Теперь от души могу сказать только вот что: меньше воюй. Т. е. меньше негодуй, обличай, ругай, жалуйся, бери больше снисходительностью, любовью. Лучше люди, чем они кажутся, – и на любовь кто не пойдет. Ты сама как-то писала, что с тобой, если что и можно сделать, так только любовью. Думай то же и о других. Сара, это то, в чем я убеждаюсь постоянно.
Милая моя Сарушка, пиши ты мне особенно полно, подробно о твоем житье, еде, ведь что ты написала о своей комнате – ужасно. Ты можешь заболеть. Не храбрись своим здоровьем, всему мера! Немудрено надсадиться и тебе. Ой, смотри ты лучше! Впечатление от твоей теперешней жизни будущее может всячески переработать. Но возвращать потерянное здоровье плохо. Помни ты это крепко. Что ты мне до сих пор не напишешь: какими располагаешь средствами, сколько получаешь жалованья? Понадобятся деньги – пиши мне. У меня их теперь много. Разве ты все разделяешь мое от твоего. Я ж у тебя брал – и ты же мне сама внушала, что у нас не должно быть стеснения с этой стороны. Припиши мне особенно, моя милая, что напишешь мне о деньгах, как только будет в них для тебя надобность. Ведь мы одно с тобой, Сара? Что ж, когда мы будем жить вместе, тоже будем считаться? А чем мы теперь не муж и жена?
…Лучше бояться, чем храбриться! Боишься, значит, видишь, сознаешь трудности, препятствия. А видеть их – есть первое необходимое условие, чтобы одолеть их. Вот я так радуюсь всякому страху перед каким-нибудь делом; образовалась даже примета в этом роде! Радуюсь и за твой страх поэтому!
Ну, а дальше в твоем письме мысль, с которой, мне кажется, нельзя согласиться. Ты пишешь, что не добиваешься благодарности, но делаешь, потому что находишь нужным. Ну, конечно, что само собою разумеется. Тебе не нужно благодарности искусственной, подстроенной, дипломата что ли какого благодарного. Но благодарность искренняя, сердечная нужна, потому что она объективное мерило твоего успеха. Заслужила ты благодарность народа, значит пользу от тебя видят, чувствуют. Я понимаю, когда человек несет людям очень передовую, им даже непонятную идею – и терпит неуспех. Ему остается тогда действительно только собственное сознание своей правоты. Но твоя идея простая, народом давно осознанная – идея грамотности. И потому, милая Сара, именно заслужи их благодарность. Это и будет доказывать тебе твой успех. И всегда во все время соображай ход твоего дела с сердечным отношением к тебе учеников и их родителей. Так или нет, моя милая?
Да, вот еще по поводу деревни. Не знаю, впрочем, может быть это уже и не излишняя боязнь! Не очень откровенничай на первых порах. Люди могут сделать пакость, даже и без злобы, а так себе! Вот ты с писарем разговариваешь о Тургеневе, а о Базарове почему-то впереди всех. Будь осторожна. Базаровы – нигилисты, радикалы – ведь это так легко смешается. Осерчает на тебя когда-нибудь этот писарь, да выпьет вдобавок, – вот и пустит без долгого разговора: что вон, мол, кто такая у нас учительница, нигилистов любит, а может и сама тоже.
Воскресенье, 19 [октября], 11 ч. ночи
Дежурная.
Милая моя, ужасно больно, что ты целых пять дней оставалась без моих писем. Что было бы со мной на твоем месте?
Твое нынешнее письмо объявилось ко мне со всей неожиданностью. Я все понимаю в этом письме – и все в нем меня приводит в глубокую радость. И твои страхи за успех дела. И твои надежды на наши занятия, нашу жизнь вместе, и твое сожаление, что от меня так долго нет дружеского слова, и твое горе, что мысль обо мне впереди мысли о деле, и твое недоумение, как согласить заботу о личном совершенстве с пользой для других, и сознание собственных недостатков, и решение сделаться лучше. Я все-таки не перечел всего – и не сумел этого сделать, этого ли мало, чтобы радоваться, как я сейчас.
Что тебе сейчас могу ответить на это? Одно, Сара, одно: люблю тебя, люблю тебя больше всего и больше всех. Ты поймешь ведь как нужно? Так много хорошего через это письмо переходит от тебя ко мне в душу, что любовь – эта связь между нами – делается ужасно полною, глубокою, широкою. Я не хочу теперь, сейчас разлагать это хорошее приятное ощущение на отдельности. Не хочу копаться в себе. Пусть оно цельным останется хоть ночь. Хоть во сне. Завтра поутру разберусь. Прощай, моя милая, хорошая, ненаглядная, до завтра.
Понедельник, 20 [октября], 3 ч. утра
Здравствуй, моя хорошая! Поцелуемся получше и начнем рассуждать. Ты жалуешься на перо, моя милая. Не права, не права. Посмотри-ка, как исправно оно служило тебе в этом письме. Читая его, я как будто был с тобой целый вечер, прослушал все твои движения, разговоры и с тобой, и со мной. Видел все твои выражения лица. Ведь право так.
А твое состояние, милая Сара. В этот вечер отчетливое, меланхолическое. Ведь чем оно характеризуется? Тем, что против каждого утешительного соображения непременно есть неприятное, сколько ты не рассуждай. И это отлично выступает в твоем письме. Хочешь, покажу? Начинаешь, положим, беспокоиться об успехе твоего дела. Естественное утешение – дружеское слово. Ты его справедливо желаешь, ждешь. Ну и кончено бы. Вот и нет: на то и меланхолия. А как же вот другие и без этого обходятся. Никого им не нужно, кроме идеи. А тут вот и давай еще сюда и человека, вот этого. Значит плоха. Естественное утешение: «Будем хорошо заниматься вместе». И опять возражение: «Э, все в будущем; отвод один только – это вместе. Нечего толковать: плоха, плоха!» Естественное утешение: «Будем стараться сделаться лучше!» Казалось бы, что и все, а вот и нет. «Что же, это все самоусовершенствование пойдет, а когда же служение другим?» И опять: «Плоха, плоха, плоха! Буду исправляться!» Должно быть конец и все же нет: «Зачем это написала? Рисоваться? Другой этого бы не писал». И только теперь хорошая объективная речь: «Скоро все пройдет, я не стану замечать всего этого, но тем более надо сказать об этом, чтобы ты (то есть я) напомнил».
Да, это, конечно, отлично переданное меланхолическое состояние, ну что же из этого? Его нужно гнать, как болезненное, неприятное? Совсем нет, моя Сара. Об этой меланхолии я высокого мнения. Может, это пристрастие, суждение по себе? Не знаю, но, по крайней мере я убежден в этом. Мне представляется следующее. Человек имеет две противоположные стороны и так устроен, что в каждый момент видит всегда только одну. Хорошо настроен – светлую, дурно – только серую. Значит, полная истина-то о себе дается только этим состоянием. И вот почему я ценю и минуты меланхолии – это уж плохо. Конец развития, совершенствования, коли человек видит в себе только хорошее. Чего ему уж развиваться, когда и так он хорош, без пятнышек! И ты сама отлично понимаешь это, как очевидно доказывает твоя последняя фраза письма.
Ну поцелуемся же, моя хорошая, пожарче, на радость, что так хорошо сошлись на таком важном обстоятельстве. Значит, мы доверяем друг другу, что передаем один другому минуты смирения, самобичевания. Это-то и есть верх любви. Я понял теперь, отчего эти письма мне так приятны. Ну, теперь давай перебирать твои печали. Перебирать, кому обидно. Но любви, Сара, можно!
О боязни за успех дела поговорим уже: понимаю и целую. Больше сказать нечего! – дружеское слово? Мне ли это не понять, мне ли не оценить, который столько раз, когда приходилось плохо, утешался мыслью, что Сара меня любит, будь при мне – всячески облегчала бы, и мне действительно становилось лучше, хотя и хотелось бы, чтобы было это дружеское слово сейчас, кстати, для этого данного случая. А что другие обходятся без таких слов, без любящих людей, с одной только идеей, то покажи мне их, дай мне их рассмотреть лучше. Может это только мне так кажется? Глядишь, и они чувствуют по-человечески.
Мне представляется как-то иначе. Человек потому и человек, что связан чувством с подобным себе. Осуди сама: что же больше связывает, как не сердечное участие, помощь, сочувствие в трудные минуты? Мне кажется, ты не права, когда горюешь, что для тебя человек впереди идеи. Что рассуждать? Посмотри кругом, припомни разные книги: историю, как и романы. Ведь это весь мир. Что ж, для тебя несомненно, что в лучших самых людях идея всегда отодвигала назад человеческие чувства. Не наоборот ли? Сколько раз самые высокие идеи: отечество, истина и т. п. приносились в жертву различным межчеловеческим чувствам. И что же при этом другие осуждают? Совсем нет. Все чувствуют правду и здесь. И это в отдаленные времена, как и теперь, сейчас! Идеи и человеческие чувства – это две ужасных силы в человеке, – и дело кончится, так мне представляется, по крайней мере не победой одной стороны над другой, а их слитием. И вот почему вместе является для меня справедливым, верным решением мудрого, большого вопроса.
А ты еще сомневаешься! Мы будем ведь тоже служить идее, почерпая силу в нашей любви, и наоборот, усиливая нашу любовь нашей идеей, почином общим дела. К чему война между нами, когда от их мира выигрывает и то, и другое. Мне думается: это и есть истина по-человечески, реально. Скажи, как ты думаешь?
Бросаю писать. Доктора зовут в лабораторию. Кончу там, опять буду писать. Письмо уж отнесу на вокзал с дежурства.
11 часов в лаборатории сделал, собственно не сделал, а напортил, но все равно – покончил и, забравши бумаги, снова пишу моей хорошей Саре.
Ты не можешь себе ясно представить, как примирить заботы о самоусовершенствовании с заботой о новых других. Мне кажется, при верном понимании, высоком понимании самоусовершенствования, это совсем почти сливается. Начнем говорить о себе с ближайшего. У тебя сейчас дело: научить ребятишек грамоте, внушить им хорошие чувства, потом всмотреться в народную правду, позаимствоваться ею. Проникнуться горем народа, чтобы после всею жизнью своею стараться уменьшить его. Ведь это же забота о пользе других. И разве она тесно не сливается с самоусовершенствованием? Ведь для этого требуется сейчас много и настойчиво думать, учиться любить, быть трудолюбивым и исправным! Ведь это твоя польза, твое приобретение, твое усовершенствование. Так же и должно происходить развитие, улучшение. Как же бы можно выучиться любить? Быть трудолюбивым, оставаясь вдали от дела. Я так наоборот. Не могу представить, как могло бы быть иначе.
Теперь я. Я занимаюсь, или хочу заниматься физиологией: я ищу истин относительно тела человеческого, ведь я их не оставляю для себя. Они делаются ведь общим достоянием, из них делается (или сделается) ведь применение пользы для всех людей, милая, ведь это так? И, однако, это моя польза. Я развиваю, усиливаю, приучаю к хорошим привычкам мою голову, и мне же от этого хорошо, приятно. Ты, может, скажешь: ты не видишь этой пользы. Да, я могу не увидать пользы от моих трудов сейчас, но я вижу, как уже принимают постоянную осязательную пользу подобные труды других. Когда-нибудь дойдет черед и до моих. Все равно: будем жить этою основательною надеждою. Ведь и это может поддержать живую связь с выгодой. Будем оживлять эту связь мыслею, соображением.