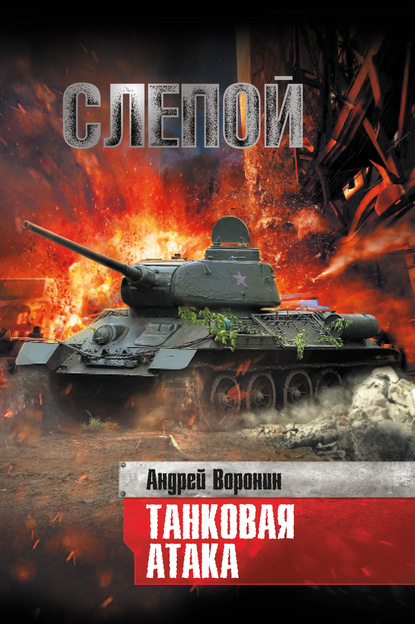Полная версия
Слепой. Метод Нострадамуса
– Можно подумать, маринованный чеснок с сухим вином сочетается лучше, – осторожно съязвил Юрген.
Он уже начал понемногу осваиваться и даже почти перестал бояться.
– Маринованный чеснок хорошо сочетается с черным хлебом и холодным мясом, – наставительно сообщил незнакомец. – Как, впрочем, и хрен. А вино – по крайней мере, то, которое вы держите у себя в холодильнике, – в данном случае выступает просто как напиток. Как жидкость, чтобы не есть всухомятку. В винах надо учиться разбираться, Эдуард Максимович. Вы многого достигли, а перспективы перед вами разворачиваются такие, что у меня, признаться, дух захватывает. Так что учитесь разбираться в винах, а то может случиться конфуз.
– Откуда это вам известно – насчет перспектив? – насторожился Юрген. – На моего коллегу вы не похожи.
– Боже сохрани! – мужчина с комическим ужасом воздел кверху руки, в одной из которых поблескивал кухонный нож. – А насчет перспектив мне известно потому, что во многом они зависят от результата нашей с вами беседы.
Отодвинув заметно поскучневшего после этого заявления Юргена твердым плечом, он аккуратно накрыл на стол и откупорил бутылку.
– М-да, – сказал он, понюхав горлышко. – Не помои, конечно, но… А, ладно, сойдет. Давайте бокалы.
Они выпили, не чокаясь. Юрген, мучимый проснувшейся на нервной почве жаждой, выхлебал свой бокал в два огромных глотка, а незнакомец лишь слегка пригубил, заметно при этом поморщившись – видимо, продукция румынских виноделов действительно пришлась ему не по вкусу. Отставив бокал, гость с волчьим аппетитом, но при этом ухитряясь соблюдать все мыслимые правила застольного этикета, набросился на хлеб и мясо. Глядя на него, Юрген вспомнил, что тоже голоден, и, махнув на все рукой, последовал благому примеру.
– Согласитесь, что есть вкуснее всего вечером, после захода солнца, – с набитым ртом, но при этом вполне внятно, вещал гость. – Человеку, ведущему активный образ жизни, обильный ужин просто необходим. Обед можно пропустить. Я, например, никогда не обедаю, потому что после еды, как все простые смертные, соловею и делаюсь ленив, а это при моей работе просто недопустимо. Утром выпиваю чашечку кофе, иногда с бутербродом, обед пропускаю, зато уж вечером, если есть такая возможность, даю себе волю. И, как видите, фигура моя от этого ничуть не пострадала. Вообще, если человек склонен к полноте, ему никакая диета не поможет. Изнуряя себя голодовкой и пытаясь соблюсти придуманный невеждами в белых халатах режим питания, он только расшатает свою нервную систему и испортит желудок. Есть надо не по какому-то там режиму, а по потребности, когда голоден. Вы со мной согласны? Можете не отвечать. Я по лицу вижу, что согласны. Разум ваш может не соглашаться, зато желудок – полностью на моей стороне. Правда ведь?
Юрген неопределенно пожал плечом. Вся эта застольная трепотня была ему до лампочки.
– И потом, – продолжал гость, подливая хозяину вина, – все эти диеты и прочие виды самоистязания попросту бессмысленны. Человек голодает, отказывает себе в простейших удовольствиях, изнуряет себя дурацкими физическими упражнениями в тренажерном зале, а потом с ним происходит какая-нибудь нелепая случайность, и он, усталый, голодный и раздраженный, отправляется в мир иной, где, как нам с вами доподлинно известно, ему уже ни за что не удастся наверстать упущенное. Ну, сами посудите, какой в этом смысл?
Юрген замер, не донеся до рта бокал, и подозрительно уставился на гостя.
– На что это вы намекаете?
– На то, что жизнь коротка. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, – с удовольствием процитировал гость. – Автор этих слов распорядился своей собственной жизнью так, что хуже не придумаешь, однако под данным заявлением я готов подписаться. Вы неплохо поднялись, Эдуард Максимович, но неужели вам не хочется большего, чего-то по-настоящему значимого? Чего-то такого, чтобы вас вспоминали столетия спустя и называли, к примеру, Эрнстом Великим?
– Знаете, – отставляя в сторону нетронутый бокал, сухо произнес Юрген, – несмотря на довольно странную манеру ходить в гости, вы в высшей степени приятный собеседник. Однако время позднее. У меня был тяжелый день, я чертовски устал и хотел бы, чтобы вы, наконец, перешли к делу.
– А я уже перешел, – непринужденно сообщил нисколько не смущенный этим выпадом незнакомец, ловко цепляя на вилку и препровождая в свою тарелку очередной ломоть мяса. – У меня к вам серьезное деловое предложение, – продолжал он, обильно сдабривая мясо хреном. – Полагаю, оно вас заинтересует. Речь идет о коммерческой сделке. Как говорится, у нас товар, у вас – купец.
– Вообще-то, говорится как раз наоборот, – заметил Юрген, вспомнив, как засылали сватов в родном Козьмодемьянске.
Эрнст вдруг увидел эту картину ясно, как наяву, и она неожиданно пронзила сердце сладкой тоской. «Ностальгия, – с некоторым удивлением подумал он. – Это еще откуда? Впору к психоаналитику записываться…»
– Не будьте формалистом, – отмахнулся незнакомец. – В конце концов, я вас не сватаю, я просто предлагаю вам товар. И, между прочим, очень точно описываю ситуацию. У меня товар, а у вас, как бы вам ни хотелось этот товар заполучить, просто не хватит на него денег. Зато у вас есть купец, способный оплатить данную покупку. Ведь вы же на короткой ноге с Жуковицким, верно? Вот и попросите у него денег.
– Погодите, не так скоро, – растерялся Юрген. – С чего это вы взяли, что ваше предложение меня заинтересует? А тем более Жуковицкого?
– Если оно вас не заинтересует, я буду крайне разочарован в людях, – объявил гость. – А заодно и в себе, поскольку до сих пор я ни разу не допускал таких катастрофических ошибок в выборе делового партнера.
– Ну-ну, – снисходительным тоном произнес астролог, начиная ощущать себя хозяином положения: незнакомец, как оказалось, пришел навязать ему какой-то товар, а значит, несмотря на все его странности, представлял собой всего-навсего слегка модифицированную разновидность коммивояжера – распространителя косметики, моющих средств или, скажем, бытовых электроприборов. – Так что это за товар такой, на который у меня не хватит денег? Золотой прииск? Межконтинентальная ракета?
– Фотокопия недостающей части «Центурий», – оставив без внимания прозвучавшую в вопросе иронию, как ни в чем не бывало ответил незнакомец. – А также подлинные записки Конрада Бюргермайера, придворного астролога Петра Первого, в которых, по слухам, содержится открытый им ключ к шифру Нострадамуса. Вам это о чем-нибудь говорит? Вижу, что говорит. Выпейте вина, Эдуард Максимович, вы побледнели…
Глава 5
Завтрак был, без сомнения, калорийным, питательным и вообще в высшей степени полезным для выздоравливающего организма. Это, увы, никоим образом не влияло на его вкусовые качества, и, чтобы впихнуть в себя эту безвкусную размазню, увенчанную тощей рыбной котлеткой, нужно было сделать изрядное волевое усилие.
Делать разнообразные усилия, как волевые, так и физические, ему было не привыкать, а организм действительно остро нуждался в энергии для восстановления сил. В последние две недели он наконец-то начал испытывать здоровый голод, и это его радовало. А вкус… Ну, что вкус? В конце концов, тому, кто приучен в случае острой необходимости утолять голод дождевыми червями и насекомыми, больничная овсянка нипочем…
Отставив на тумбочку тщательно подчищенную хлебной коркой тарелку и пустой стакан из-под слишком сладкого компота, он прилег на кровать, по уже укоренившейся привычке притворяясь куда более слабым, чем был на самом деле. Ему подумалось, что это притворство – напрасный труд. Для кого, собственно, он притворяется? Ну, допустим, в палате установлена следящая камера. Очень может быть. Почему бы и нет? То, что камеры не видно, не означает, что ее нет. Значит, следует считать, что она есть, пока не будет твердо доказано обратное. Спрятать ее могли, например, вон в той вентиляционной отдушине – лучшего места просто не придумаешь, да и не видно его здесь, другого места…
Словом, если камера есть, симулировать слабость – святое дело. Это неплохой способ ввести противника в заблуждение. Вот только те, кто умирает от слабости, не уплетают безвкусную больничную пищу с таким волчьим аппетитом. Умирающих от слабости приходится кормить почти насильно, с ложечки, а то и вовсе через капельницу. Но, если не есть, слабость, которую сейчас приходится симулировать, одолеет и без того измученный организм.
«К черту, – подумал он, скользя взглядом из-под полуопущенных век по уже ставшей привычной, почти родной обстановке. – От таких мыслей действительно можно заболеть. С чего, в конце концов, я взял, что имею дело с противником? Откуда это ясно, что за мной ведется круглосуточное наблюдение, и кому это надо – следить за таким полутрупом, как я? Нет, конечно, на свете сколько угодно людей, у которых нет оснований желать мне добра. Но, попадись я к ним в руки, лечить меня они бы уж точно не стали. Они бы не стали даже тратить на меня пулю – это бы просто не понадобилось. Достаточно было всего-навсего присесть рядышком и спокойно, с удовольствием наблюдать, как я отдаю концы. Судя по всему, много времени это не заняло бы».
Он отлично помнил, как все произошло. У него было задание, простое и ясное: убрать человека, который с некоторых пор почти в открытую, и притом небезуспешно, пытался заполучить единоличный контроль над такой мощной корпорацией, как российский Газпром. Это предоставляло неограниченные финансовые возможности, а вместе с ними, почти неизбежно, и огромное политическое влияние. Учитывая личность клиента и некоторые моменты его деловой и политической карьеры, оставшиеся без крайне неприятных последствий ввиду их полной недоказуемости, допустить этого было нельзя. Неизвестно, на каком уровне было принято решение о ликвидации – исполнителям подобные вещи знать не полагается, – но сделать это надлежало аккуратно, с соблюдением полной конфиденциальности.
Выследив господина депутата, он явился на дом к его любовнице, чтобы устроить там засаду. Никого не побеспокоив, отключил охранную сигнализацию. Без каких бы то ни было проблем отпер дверь заранее изготовленным дубликатом ключей. Никем не замеченный и, что самое смешное, почти на сто процентов уверенный, что дело уже, можно сказать, в шляпе, повернул ручку и потянул дверь на себя.
И услышал отчетливый, сухой щелчок сработавшего запала.
Вот, собственно, и все, что он помнил. Можно было предположить, что жизнь ему спасла железная дверь квартиры: она открывалась наружу и, выбитая мощным взрывом, припечатала его к стене, переломала бог знает, сколько костей, но приняла на себя основную массу осколков, которые в противном случае неизбежно превратили бы его в груду мясного фарша. В себя он пришел уже здесь, в этой палате, откуда только неделю спустя двое санитаров с фигурами борцов-тяжеловесов и с неестественно бесшумной походкой убрали реанимационную аппаратуру.
Лежа на спине, агент по кличке Слепой еще раз оглядел помещение.
Одноместная палата, небольшая, но очень светлая. Кремовые стены без намека на тоскливый больничный кафель, современная мебель – кровать, встроенный платяной шкаф, тумбочка, – идеально ровный белоснежный потолок – все было чистенькое, без единого пятнышка, без малейшей потертости, словно это помещение только что сдали в эксплуатацию. При этом пахло здесь не стройкой и даже не больницей, а чем-то приятным, смутно знакомым – кажется, ароматизированным моющим средством, вроде того, которым натирают полы в супермаркетах. Гладкий, матово лоснящийся, теплого светлого оттенка ламинированный пол, стерильно чистый, оборудованный по последнему слову техники санузел с душевой кабиной, приветливый, хотя и неразговорчивый персонал, великолепный уход – все это меньше всего напоминало тюрьму.
И, тем не менее, это была если не тюрьма, то нечто, весьма на нее похожее.
Наружная стена палаты, против которой стояла кровать, на высоте примерно двух с половиной метров загибалась вовнутрь под углом примерно в сорок пять градусов, образуя откос, в котором было прорезано продолговатое, горизонтальное, как амбразура дота, окно. Пациент, таким образом, даже стоя не мог видеть из этого окна ничего, кроме неба – то голубого, то серого, ненастного, то ночного, усеянного звездами. Разумеется, можно было придвинуть к окну стул или тумбочку и, взгромоздившись на эту подставку, попробовать увидеть больше. Но что-то подсказывало Глебу, что это будет напрасный труд: это место явно строилось очень неглупыми людьми, которые, надо полагать, постарались все предусмотреть.
Невозможно было угадать, из чего сделана входная дверь – гладкая, отделанная под дерево того же цвета, что и пол. Но всякий раз, когда она открывалась или закрывалась, Глеб слышал щелчок электрического замка, а дверное полотно поворачивалось на петлях с той плавной неторопливостью, которая свидетельствует о приличном весе. Эта дверь была несокрушима – по крайней мере для человека, не имеющего никаких инструментов и приспособлений, кроме собственных рук. Окно выглядело немногим лучше: его легкомысленная прозрачность, позволявшая видеть небо, не скрывала того простого факта, что оно представляло собой глухой тройной стеклопакет в прочной алюминиевой раме, которая была намертво вмурована в стену. Ни петель, ни ручек на этом окне не наблюдалось; окно предназначалось исключительно для освещения в дневное время, но никак не для вентиляции, и прочностью почти наверняка не намного уступало двери.
Эти отверстия Глеб изучил давно и нашел их совершенно непригодными в качестве путей для побега. Оставалось проверить на прочность здешний персонал, и он проделал это три дня назад, когда ему впервые позволили встать с кровати. Сделав вид, что потерял равновесие, он на глазах у молоденькой, хрупкой с виду медсестры начал мешком валиться на пол. Сестричка, стоявшая примерно в трех метрах, в мгновение ока очутилась рядом, подхватила его на лету и не только удержала, но и вернула в вертикальное положение. Причем проделано это было с быстротой и ловкостью профессионального дзюдоиста, демонстрирующего новичку простенький приемчик, а сквозь мягкую фланель больничной пижамы Глеб ощутил неожиданную силу и твердость тонких девичьих рук. Миловидная сестричка еще не успела ослабить захват, а электрический замок уже щелкнул, тяжелая дверь распахнулась, и через порог шагнул санитар – приземистый детина с перебитым носом, неправдоподобно широкими, как у мультипликационного силача, плечами и бицепсами, на которых едва не лопались рукава белого медицинского халата. На сизом бритом черепе приплюснутым блином сидела белая шапочка, в вырезе халата виднелся треугольник майки защитного цвета, а снизу из-под полы откровенно и неприкрыто выглядывали камуфляжные брюки, заправленные в высокие ботинки армейского образца. В нагрудном кармане лежала пачка сигарет, а в левом боковом кармане, без сомнения, находились наручники. Когда санитар убедился, что все в порядке, и повернулся лицом к двери, Глеб разглядел очертания наплечной кобуры.
По идее, все это указывало на принадлежность здешнего персонала к силовым структурам. Но кто сказал, что ими располагает только государство? Давешний клиент, например, имел в своем распоряжении отличную службу безопасности, а денег у него могло хватить на постройку и содержание хоть десятка таких вот комфортабельных, оснащенных всем необходимым частных тюрем. И, между прочим, с точки зрения господина депутата выздоровление Глеба почти наверняка представлялось желательным: живой, надежно запертый, целиком и полностью находящийся в твоей власти киллер куда лучше мертвого. Живого можно допросить, чтобы узнать, кто его подослал, и записать его откровения на пленку. А допрашивать полутруп – дело неблагодарное. Дашь ему разок ботинком в ребра, чтоб стал разговорчивее, а он возьмет и откинет копыта. Вот и разговаривай с ним тогда…
За неимением лучшего Слепой решил принять это предположение как рабочую гипотезу и действовать соответственно. Если окажется, что он ошибся и сильно сгустил краски, тем лучше: как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Хотя, если немного подумать, откуда оно возьмется – лучшее? Если бы все было хорошо и славно, он бы сюда не попал. Никто не минирует двери квартиры собственной любовницы, почти жены, просто так, на всякий случай. Значит, господин депутат точно знал, кто, когда, куда и с какой целью придет. Значит, имела место либо утечка информации, либо грубая подстава с целью ликвидировать агента по кличке Слепой. И в том, и в другом случае немногочисленные ниточки этого дела сходились на фигуре генерала Потапчука. Думать так о Федоре Филипповиче было очень неприятно, но ничего другого Глеб просто не мог предположить. А если господин генерал все-таки решил от него избавиться, вывести своего агента за скобки, то ждать от него помощи не приходилось.
Но если Федор Филиппович решил списать его в расход, к чему все эти хлопоты с лечением? Он ведь был уже практически мертв, так какого дьявола?..
Как обычно, дойдя в своих размышлениях до этого места, Глеб почувствовал, что окончательно запутался. Ему катастрофически не хватало информации, да и полученная при взрыве контузия, надо полагать, до сих пор сказывалась на его способности к аналитическому мышлению.
И, как всегда, стоило ему прийти к этому неутешительному выводу, как электрический замок входной двери щелкнул, и на пороге появилась медсестра. Имени этой девицы, как и ее сменщицы, Глеб не знал – на все попытки выведать у них эту ценную информацию девушки отвечали уклончивыми улыбками. Сиверову эта уклончивость представлялась следствием скорее воинской дисциплины, чем девичьей скромности, и, поразмыслив, он решил не обращать на это внимания: в конце концов, в его нынешнем состоянии он вряд ли мог представлять интерес для девушек, да и самому ему было, честно говоря, не до ухаживаний, пусть даже и шутливых.
Вслед за медсестрой в палату ввалился амбал в белом халате, толкая перед собой инвалидное кресло на велосипедных колесах. Кресло, как и все тут, было с иголочки – настолько новое, что от него по всему помещению так и разило резиной и пластиком.
– На прогулку пойдете? – спросила сестра таким тоном, словно ее и впрямь интересовал ответ.
Глебу захотелось просто для разнообразия сказать «нет» и посмотреть, что из этого получится, но он благоразумно воздержался. Вариантов развития событий после такого ответа существовало только два: его могли погрузить в кресло силой или оставить в покое – лежать на койке, смотреть в небо через наклонное окошко и в сотый раз гонять одни и те же мысли по замкнутому кругу.
– Конечно, – сказал он и был вознагражден белозубой улыбкой – вполне профессиональной, оставившей красивые карие глаза спокойными и деловито-равнодушными, но все равно милой, особенно по сравнению с мрачной рожей громоздившегося в дверном проеме амбала.
Не говоря ни слова, сестра бросила быстрый взгляд через плечо, и амбал пришел в движение, как будто его включили нажатием кнопки. Заранее растопыривая похожие на окорока ручищи, чтобы половчее поднять Глеба с кровати и переместить в кресло, он шагнул вперед мимо посторонившейся медсестры. От него за версту несло чесноком и сапожным кремом, и Глеб поспешно сел.
– Не надо, – сказал он, – я сам.
– Сам так сам, – согласилась сестра, взглядом остановив санитара.
Глеб сбросил с кровати ноги, нашарил ступнями больничные шлепанцы, встал и, качнувшись для порядка, перебрался в кресло. При этом он подумал, что от услуг санитара с креслом пора отказаться: еще немного, и его заподозрят в симуляции. А с другой стороны, чем скорее он начнет ходить, тем скорее окажется в допросной камере, оборудованной, как и все в этом странном месте, по последнему слову современной техники. «Вот попал, – думал он, с полным комфортом катясь в инвалидном кресле по длинному и пустому коридору, в котором не было ни одного окна. – Куда ни кинь, все клин!»
Когда санитар вкатил кресло в кабину лифта, Глеб подумал, что времени у него осталось совсем мало. Судя по всему, здешний персонал не лыком шит: они наверняка знают о его физическом состоянии едва ли не больше, чем он сам. Симуляцией их не очень-то обманешь; как только они сочтут, что по состоянию здоровья их пациент способен пережить допрос третьей степени, этот допрос не заставит себя долго ждать. Следовательно, нужно было в срочном порядке искать способ покинуть это гостеприимное местечко. Возможно, это будут напрасные хлопоты; возможно, грозящая Глебу опасность существует только в его воображении. Тем лучше! Убравшись отсюда, он в любом случае ничего не потеряет, а вот оставшись, может потерять все.
Лифт тронулся, и Сиверов привычно сосредоточился на задачке, которую никак не мог решить: с какого именно этажа его спускают.
* * *Иван Яковлевич прошелся по просторному кабинету и остановился перед окном, заложив за спину большие руки с мясистыми ладонями и сцепив в замок коротковатые толстые пальцы. Изо рта у него торчала зажженная папироса, и на фоне окна, за которым стоял яркий полдень, были отчетливо видны лениво клубящиеся облака дыма, придававшие Ивану Яковлевичу вид некоего мифологического огнедышащего существа, взирающего на суетный мир сверху вниз и уже не в первый раз пытающегося решить, что ему с этим миром сделать: вымарать к чертовой бабушке и начать все сначала или оставить, как есть – авось, само как-нибудь рассосется.
При невысоком росте Иван Яковлевич Корнев отличался богатырским телосложением – то есть напоминал куб или, если угодно, шар на крепеньких кривоватых ножках. Так, наверное, выглядел бы Илья Муромец, одетый в современный деловой костюм с несвежей рубашкой, старомодным галстуком, и гладко выбритый – без бороды, усов и кудрей, с огромной сверкающей лысиной в обрамлении коротенькой седоватой щетины, заменявшей ему прическу. Иван Яковлевич был генералом контрразведки, а значит, действительно принадлежал к числу людей, которые по своему усмотрению управляют судьбами мира. Курил он исключительно папиросы, и не какой-нибудь плебейский «Беломорканал», а те самые, которые предпочитал покойный генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин – «Герцеговину Флор». При этом не был ни ярым приверженцем покойного генералиссимуса, ни таким уж апологетом твердой руки или ежовых рукавиц – о, нет! Просто он курил «Герцеговину Флор» с тех самых пор, когда зарплата, наконец, начала позволять ему такую роскошь, и курил ее до сих пор, хотя даже его коллеги, по долгу службы обязанные знать все на свете, не могли хотя бы приблизительно предположить, где он берет эту легендарную отраву. Возможно, это звучит странно, но, будучи генералом контрразведки и предпочитая всем остальным табачным изделиям любимые папиросы покойного тирана, генерал-майор Корнев оставался вполне приличным человеком – был галантен с женщинами, тверд с мужчинами, умел держать слово, пользовался уважением сослуживцев и любовью близких.
Глядя на суетный мир сверху вниз через широкое, отмытое до скрипа окно, попыхивая папиросой и сцепив за спиной короткие толстые руки, генерал-майор спросил:
– Этот?
Федор Филиппович с облегчением поставил на стол рядом с нетронутой чашкой Корнева свою и встал. В чашках был чай – расфасованная в пакетики дешевая дрянь с запахом ежевики и вкусом хлорированной водопроводной воды. По сравнению с этим напитком чрезмерно крепкий кофе, который, бывало, заваривал Глеб Сиверов, казался нектаром.
Избавившись от предложенного местным начальством угощения, генерал Потапчук подошел к окну. Они смотрели наружу сквозь щели между матерчатыми лентами вертикальных жалюзи – то есть могли видеть все, сами оставаясь невидимыми.
Из окна открывался вид на уютный больничный дворик с обсаженными аккуратно подстриженными шпалерами кустов цементными дорожками, купами старых лип и скромным фонтаном в центре. При своих небольших размерах этот парк для выгула инвалидов снизу, с утопающих в зелени дорожек, наверняка должен был представляться прикованным к креслам на колесиках людям безграничным. Они не могли видеть ни высокого кирпичного забора, оплетенного поверху колючей проволокой, ни расположенного за этим забором проволочного ограждения в три ряда, через которое был пропущен электрический ток, ни вооруженных армейских патрулей. Это было им ни к чему – они лечились, поправляли здоровье, а те, кто их сюда поместил, как умели, заботились о том, чтобы внешний мир их не беспокоил.
По дорожке между зелеными шпалерами санитар в белом халате неторопливо катил инвалидное кресло. Даже отсюда, сверху, было хорошо видно, что это громадный амбал, которому белый медицинский халат идет как корове седло. В кресле, закрыв глаза, в расслабленной позе, запрокинув бледное, осунувшееся лицо, сидел человек в больничной пижаме. Его левая рука висела на марлевой перевязи, голова была забинтована, на правой ноге тоже красовалась повязка. Этот пациент имел блаженный вид человека, побывавшего на грани между жизнью и смертью, хорошо об этом помнящего и потому наслаждающегося каждым мгновением бытия. Это выглядело настолько правдоподобно, что Федор Филиппович на секунду засомневался: неужели все так и есть?