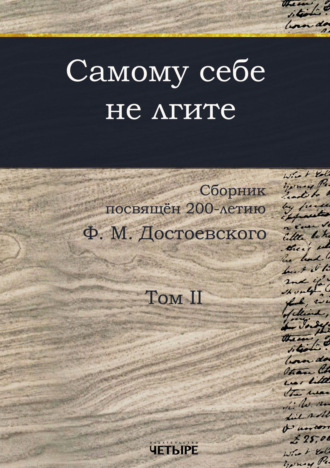
Полная версия
Самому себе не лгите. Том 2
– Опора – в религии, – многозначительно возразил Чаадаев. – На Западе первые случаи освобождения были религиозными актами, они совершались перед алтарем, и в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. А у нас закабаление идет при полном попустительстве церкви.
– А мне иногда кажется, что это размеры погубили Россию, – заметил Печерин. – У нас народ никогда всерьез с властью не боролся, просто бежал на Восток, бежал на Дон, к казакам. В такой ситуации образованным людям не остается ничего другого, как бежать на Запад.
В 1831 году Печерин окончил филологический факультет Петербургского университета, а в 1833-м уехал на стажировку в Берлинский университет.
«Оставь надежду всяк сюда входящий!» – вырвалось у Печерина, когда прошлым летом он, возвращаясь после стажировки домой, пересек германскую границу и оказался в пределах Российской империи.
В тот же миг он ясно осознал, что не сможет в ней оставаться, и через полгода после начала своей профессорской карьеры в Московском университете окончательно решил оставить Россию. Разрешение съездить на лето в Берлин Владимир Сергеевич получил довольно быстро и через месяц собирался навсегда покинуть страну. Распространяться об этом он, однако, не стал и лишь заметил:
– Помните, как Мельгунов в «Путевых очерках» описал свое первое чувство, с которым сошел с корабля на европейскую землю?
– Не помню, но могу догадаться, – усмехнулся Чаадаев.
– Он писал о «неизъяснимом чувстве блаженства», о «чувстве заключенного, который после долгого заточения вдруг был выпущен на свет Божий», что-то в этом роде.
– Надо же! – удивился Чаадаев. – И цензура пропустила!
6 (18) мая
Москва
Пушкин отогревался душой в атмосфере неспешного уклада нащокинского дома, где никто не торопился вставать, а встав, чем-то важным заняться. Первые три дня Пушкин с Нащокиным только домоседничали и играли в вист, хотя дел было намечено немало. Нужно было побывать в архиве Коллегии иностранных дел, разобраться с распространением «Современника», который в Москве продавался еще хуже, чем в Петербурге, а также встретиться с некоторыми авторами «Московского наблюдателя» и постараться заинтересовать их своим журналом.
В числе множества приглашений, пришедших Нащокину на имя Пушкина в эти дни, было получено приглашение и от Чаадаева. С него Пушкин решил начать свои выезды.
42-летний Чаадаев жил во флигеле дома Левашовых, на Новой Басманной улице.
С Пушкиным Чаадаев познакомился в 1817 году, когда вступил в расположенный в Царском Селе лейб-гусарский полк. Все офицеры были на короткой ноге со старшими лицеистами, прозванными Чаадаевым «философами-перипатетиками» за их пристрастие к прогулкам по тенистым царскосельским аллеям.
Но с Пушкиным, как раз завершавшим в том году свою учебу, Чаадаев сблизился особенно. Покоренный его живостью и поэтическим талантом, Пётр Яковлевич очень хотел пристрастить юношу к своим идеям, зародившимся в 1813 году в занятом русскими войсками Париже: у человечества нет иного пути, кроме европейского. Любой другой путь ведет в никуда!
Пушкин, казалось бы, так же восхищенный глубокомыслием своего друга, оставался большей частью при своем мнении. Друзья спорили о значении религии, о судьбах России и Европы, спорили жарко и аргументированно и каждый раз удивлялись, особенно Чаадаев: как это его собеседник отказывается понимать очевидное?!
Чаадаев часто сетовал на то, что им с Пушкиным так и не удалось соединить их жизненные пути, что не пошли они рука об руку.
Он и сейчас готов был повторить своему гостю эти слова. Он был убежден, что предложи тот ему, Чаадаеву (а не Гоголю), стать вторым лицом в «Современнике», публика набрасывалась бы на журнал как на горячие бублики. Но Пушкин без восторга относился к «Философическим письмам» своего друга, и темы сотрудничества благоразумнее было бы не затрагивать.
Между тем совсем удержаться от проблемы распространения своих идей Чаадаев не мог и не преминул поделиться наболевшим.
– Сегодня я к себе Андросова жду. Он мне рукопись должен вернуть – русский перевод моих «Философических писем». Не берет «Наблюдатель» мою работу.
– Опомнитесь, Пётр Яковлевич. Нет цензора, который такое пропустил бы. Андросов тут ни при чем. Это я вам как издатель говорю. Вы не представляете, с какой чиновнической тупостью приходится по журнальным делам сталкиваться… Хочется порой плюнуть на Петербург и удрать в деревню.
– Не представляю, как бы вы могли себе это позволить с вашим семейством…
– Отчего же? Что вы имеете в виду?
– Такие супруги, как ваша, Александр Сергеевич, для затворничества не созданы… Поручусь, немало у вас с ней забот.
– Да какие там заботы? Расходов, конечно, семья немалых требует, но я очень счастлив в браке.
– Правда? Охотно вам верю, хотя сам я к браку не расположен.
– Но почему? – Александр Сергеевич оживился, получив неожиданную возможность задать давно вертевшийся на его языке вопрос. – Вы были блестящим офицером, Пётр Яковлевич, вы – герой войны. Выправка у вас, вкус в одежде необыкновенные, наконец, вы и танцор замечательный. Не раз про себя это отмечал. И, как вы знаете, мой Онегин некоторые ваши черты унаследовал. У вас блестящий ум философа, но вы притом не какой-нибудь книжный червь вроде Канта, который на смертном одре благодарил Бога за то, что в жизни ему не пришлось совершать нелепых телодвижений, лишенных метафизического смысла… Не может же быть, что вы никогда не состояли с какой-либо особой в романтической связи? Неужели и вы не находите в определенных движениях никакого смысла или я просто не все знаю? Ответьте мне, Пётр Яковлевич: была ли в вашей жизни любовь?
Чаадаев приподнял брови и ответил:
– Помните, как сказано у Экклезиаста: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».
– Замечательные слова, но они все же никого пока не заставили от самого поиска отказаться, а некоторые, как я, например, даже готовы с этими словами и поспорить.
– Дорогой Александр Сергеевич, – медленно выговаривая каждое слово, ответил Чаадаев, глядя Пушкину прямо в глаза, – когда я умру, вы все сами узнаете.
В этот момент слуга Чаадаева Иван Яковлевич, которого за его благородную осанку, ум и манеры все всегда принимали за барина, доложил о приходе бывшего любомудра, главного редактора «Московского наблюдателя» Василия Петровича Андросова.
Андросов степенно подошел к беседующим. Он церемонно пожал руку хозяину и лишь затем протянул ее Пушкину.
Андросову было за что себя уважать. По происхождению мещанин, дворянскую грамоту он получил вместе с университетским дипломом, а нынешнего своего положения издателя и ученого достиг напряженным трудом.
Писал Андросов на самые разнообразные темы, начиная философией Канта и кончая хозяйством России. Репутацию добросовестного автора и беспристрастного исследователя ему принес изданный в 1832 году справочник «Статистическая записка о Москве», в котором приводились исчерпывающие сведения о Первопрестольной: климат, состав населения, число храмов, театров и даже самоубийств.
Пушкин держал в своей библиотеке эту книгу, даже почти до половины разрезал в ней листы, но до чтения дело так и не дошло. Весь этот энциклопедизм, сказавшийся также и на облике «Московского наблюдателя», особого вдохновения у Пушкина не вызывал.
Взглянув в проницательные, но поблекшие глаза редактора «Московского наблюдателя», Пушкин живо вспомнил другого Андросова – юного тщедушного студента, по памяти цитирующего Шеллинга. Тогда в нем сверкала какая-то искра, тогда его глаза горели.
– Пожалуй ведь, мы не встречались с вами со времен общества любомудров? – улыбнулся Пушкин.
– А вы помните еще наше «тайное общество»? Помните споры о Канте и Шеллинге до утра?
– До утра я, конечно, с вами, философами, не досиживал; диалектика все же – не вист, но то, что «Мировой Дух пишет не столько историю, сколько поэму», это я усвоил.
– Что ж, вы ухватили главное, – улыбнулся Андросов. – Как сказал великий Шеллинг, «поэтический вымысел творит действительность»! Вы, поэты, – главные поверенные Мирового Духа! Не чета нам, философам и статистикам.
– Да, – подтвердил Чаадаев, поймав на себе ироничный взгляд Андросова, – в этом вопросе у Шеллинга с Гегелем решительное расхождение. По Гегелю, Вселенский Дух пишет ученый трактат, пишет «Феноменологию духа», а по Шеллингу – Поэму.
– Однако Гегель, как я вижу, излишней скромностью не страдал, – усмехнулся Пушкин. – А кого, интересно, Шеллинг занес в соавторы Мирового Духа, коль скоро сам на эту роль не претендовал?
– Ну как, кого? Шекспира, Гёте, Гомера, – стал вспоминать Чаадаев.
– Имя Гомера Шеллинг, конечно, не раз упоминает, – заметил Андросов. – Но в том отрывке, где идет речь о Великой Поэме Мирового Духа, он говорит только о Новом времени. Давайте проверим. Вы не дадите мне «Философию искусства», Пётр Яковлевич?
Чаадаев подошел к полке, вытянул нужный томик и протянул Андросову, который быстро разыскал нужное место.
«В искусстве мы имеем как документ философии, так и ее единственный извечный и подлинный органон… Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию; мир этот находится в становлении, и современная поэту эпоха может открыть ему лишь часть этого мира; так будет вплоть до той лежащей в неопределенной дали точки, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму и превратит в одновременность последовательную смену явлений нового мира…»
– Видите, я был прав, здесь о «новом мире»…
Андросов остановился, ища абзац, с которого хотел продолжить.
– Вот так тему подбросил нашему брату Шеллинг! – воскликнул Александр Сергеевич. – Мировой дух посещает гениев разных веков и дарит им идеи, должные однажды предстать в своем единстве! Какой потрясающий роман можно написать об этом! Гоголю, что ли, эту тему подарить или самому взяться?
– А вот послушайте, что дальше написано, – продолжал Андросов.
«Для пояснения приведу пример величайшего индивидуума нового мира. Данте создал себе из варварства и из еще более варварской учености своего времени, из ужасов истории, которые он сам пережил, равно как из материала существующей иерархии собственную мифологию и с нею свою божественную поэму… Так же и Шекспир создал себе собственный круг мифов из исторического материала своей национальной истории… Сервантес создал из материала своего времени историю Дон Кихота, который до настоящего времени, так же как и Санчо Панса, носит черты мифологической личности. Все это вечные мифы. Насколько можно судить о гетевском „Фаусте“ по тому фрагменту, который мы имеем, это произведение есть не что иное, как сокровеннейшая, чистейшая сущность нашего века».
– У меня такое ощущение, господа, – внушительно произнес Чаадаев, – что «точка» в Поэме будет поставлена в самое ближайшее время.
– С чем же связано у вас такое предчувствие? – поинтересовался Андросов.
– Ну как, с чем? Во-первых, и Шеллинг, и Гегель конца истории всегда с часу на час ожидали. «Иссякла чреда новых духовных формаций» – так ведь, кажется, у Гегеля говорится? Да и видно это. В наше время все основное понято и сформулировано…
Чаадаев запнулся. Он хотел было сказать, что со своими «Философическими письмами» потому хочет сейчас выступить, что время пришло, и только ждет, чтобы его всколыхнули, но, не встречая в собеседниках сочувствия, вместо этого спросил:
– Вот вы думаете, отчего Шеллинг книг больше не пишет?
– Вы хотите сказать, что это не его личная проблема, а просто самой философии уже нечего через него сказать?
– Верно. Но у Искусства, похоже, еще найдутся слова, – многозначительно произнес Чаадаев. – Вы не думаете, что Шеллинг сам хочет поставить точку в Великой Поэме? Вы вообще слышали, что Шеллинг обратился к поэзии?
– Слухи такие до меня доходили, – подтвердил Андросов. – Мельгунов говорил, что направляется в Германию, отчасти чтобы и этот вопрос выяснить. Может быть, и выяснил уже.
Мюнхен
Мельгунов действительно собирался задать Шеллингу этот деликатный вопрос, но в силу спонтанности своего образа жизни почти за год пребывания в Германии до Мюнхена так и не добрался. В этот момент он наслаждался общением с берлинскими литераторами и учеными.
Сам же Шеллинг ни о какой поэме не помышлял и, напротив, укрепился в решении возобновить редактирование своих старых работ, не строя при этом каких-то определенных издательских планов.
Наталия Белостоцкая

Инженер-авиастроитель, поэт, философ. Родилась на Севере – в Мурманске, на берегах студёного Баренцева моря. Поэтический уровень самодеятельного литератора, не кончавшего литинститутов, показал себя практически сразу, оказавшись засвидетельствован грамотой Королевского посольства Дании, вручённой Наталии за поэтическое изложение, популяризацию и философское осмысление произведений Г. Х. Андерсена, как победительнице конкурса, объявленного к 200-летию великого писателя. Литературное мастерство Наталии также удостоверил официальный сертификат, выданный Международным обществом пушкинистов, заседающим в Нью-Йорке и сохранившим традиции дореволюционной русской литературы, – её стихи опубликованы в американском журнале «Лексикон» (Чикаго) как произведения лауреата конкурса. А книга философских стихов Наталии «Размышления о жизни» (http://stihi.ru/2009/05/14/4577) переиздана в Канаде в 2014 году.
Старинная восточная легенда
Часть 1Лениво открывая очи,Проснулось Солнце. Тишина,Наследница и сна, и ночи,Ещё прохладою полна.Лишь сонный воздух млеет утромОт ласки солнечных лучей…Всё ждёт чего-то. Бог как будтоС небес взирает на людей…Вот император встал, не в духе:Суров, как весь великий род,В предчувствии, что вновь, как мухи,«Жужжать» своё начнёт народ:«Как подчинить великой волеСмутьянов и простой народ,Который жизнью недоволен? —Вот что покоя не даёт…Покой Великих иллюзорен:В сраженье вечном тьма и свет,Но Богом этот мир устроен,И я люблю встречать рассвет».И погрузился в созерцаньеВеликий сын династьи Линь,Как будто уплывал в мечтаньяхВ бездонную, как море, синь.«Не зря меня зовут Великим:Я словно Солнце над страной,Что освещает мир безликий…Кто, кроме Бога, надо мной?У Солнца высшее стремленье —На мир глядеть со стороны…»,Но, обрывая размышленье,Раздался возглас с вышины.Линь удивился: «Голос мнится?Иль у меня открылся дар?..».Вдруг видит: в небе словно птицаИль древнегреческий ИкарЛетает юноша свободно,Махая крыльями, поёт…«Крестьянский сын?! Неблагородный?!Живой… и в небе, где восход?!»Взгляд отведён к земле, и мраченЛик повелителя страны:«Как?! Человек ещё не схвачен?!Зачем вы, слуги, мне нужны?!».Застыли слуги в ожиданье,Лишь робкий слышен стук сердец.Звучит набатом приказанье:«Его доставить во дворец!».И ловят взгляды слуг движеньеРуки владыки: «…без угрозПозвать как друга и с почтеньем,И чтобы крылья он принёс…Но как посмел?! Без разрешенья?».«О, справедливый господин!»«Ступайте прочь все!» – с раздраженьемСказал толпе Великий Линь.«Покоя нет… и я озлоблен!Как можно? – рассуждает Линь. —Выходит, что народ способенДостичь немыслимых вершин?!Чего мне дальше ждать? Что будет?Изменят крылья весь укладМоей страны?! Меня забудетНарод, умеющий летать!..»Часть 2С улыбкой юноша (создательДвух крыльев) прибыл во дворец.«Великий Линь! ИзобретательЖдёт Вашей милости». «Глупец…Представь его…» «Я рад безмерно!Свершилось в утренней тиши…»Линь оборвал высокомерно:– А есть на крылья чертежи?– О да! Великий Линь и Мудрый!Вот чертежи мои – смотри!Я их подправил этим утром…И полетел… на – забериНа благо всех людей империи,Чтоб стало легче жить, светлей…Трудясь безропотно, все верилиВ возможность счастья на земле!Ах, я почувствовал свободу,Полёта ощутив восторг!И люди, позабыв невзгоды,Преобразятся.– Это торг?!Что делать мне теперь, новатор,С твоими крыльями, скажи?– О мой Великий Император!Они твои и сам реши!– Нарушил ты покой священный:Зачем полёты голытьбе?Своим поступком дерзновеннымТы будто всех зовёшь к борьбе?!– Я так не думал, о Великий…– Вот новость: думы бедняка?!Мир этот хитрый, многоликий…И ты мне лжёшь наверняка…Тебя никто не видел больше,Когда летал?– Ещё все спят!– Так не задерживаю дольше.Тебя сейчас… увы… казнят.Эй, стража, взять его! А крыльяИ чертежи – предать огню!С ним о покое позабыл я…Его казнив, я сохранюПокой страны: чтоб всё – как былоИз года в год, из века в век.Свобода – это власть и сила!Опасен умный Человек!..* * *И от костра дым вверх клубится,Туда, где синь, где яркий свет,Чтоб снова мыслью возродиться,Как Феникс, через сотни лет.30 июня 2006 г.Сагынбубу Беркиналиева

Член Союза писателей Киргизстана, Союза писателей Средней Азии и Евразийской творческой гильдии, Северной Америки (Германского отдела).
Изданные произведения: «Лист, покрытый пылью» (издательство «Бийиктик»), «Девушка, танцующая в небе» (издательство «Высокие горы»), Girldancinginthesky (издательство HertfordshirePress).
Обладательница диплома I степени республиканского конкурса молодых поэтов «Поклон Родине», дипломант фестиваля «Евразийская неделя культуры в Великобритании», обладательница Гран-при международного конкурса «Открытая Евразия» в Брюсселе, удостоена медали «Лира» за лучшую женскую лирику.
Книги переведены на русский, английский, казахский, украинский языки.
«Томлюсь, как птица, в клетке тесной, мне камнем давит грудь тоска…»
Томлюсь, как птица, в клетке тесной, мне камнем давитгрудь тоска,И от обиды бесполезной вся жизнь, как полынь, горька.Сливаются мгновенья в Вечность… Молю Судьбу, закрывглаза,И плачу. Льётся в Бесконечность моя горючая слеза.Когда одна моя слезинка неслышно наземь упадёт —Ко мне легко, словно пушинка, вдруг Дева Лира подойдёт:«Звала меня? Слезу утри. Возьми лист, ручку. И – твори!».О, Дева Лира! Ждут нас новые пути! Вот слёзы высохли,и мы уже взлетаем!Мы сможем облететь и обойти весь мир (которого ещёне знаем)!И тёмный Космос вдохновеньем озарим! Пылает сердце,не переставая биться…Спасибо, Дева Лира! Мы летим, чтобы в сияющие звёздыпревратиться!«Прикинувшись бурей, ветер осенний бушует…»
Прикинувшись бурей, ветер осенний бушует,Воет, взметая листву, шепчет настойчиво в ухоИ отлетает, свободный, гордый, и в ветках тоскует,Листья швыряя небрежно, намеренно сухо.Душу тревожит ветер, осенний шарманщик…Жалобно стонет: «Я осушу твои слёзы…»Но я не верю твоим обещаньям, ветер-обманщик!Ты улетишь. Листья пожухнут. Наступят морозы.Не отвечу шуршанию Осени. Я промолчу.Смолкла ветра шарманка. А я – одинока.Лишь отчаянно мокрые листья топчу —Воздаю тебе, Осень-разлучница, око за око.Я вам прочту стихи свои…
Я вам прочту стихи свои, поэты!Они в душе моей, как нежные цветы.Меня подбадривают ваши комплименты,И жду от вас достойной прямоты.Стихами, словно ландышами белыми,Всех одарю. Устрою рай земнойИ с вами поделюсь мечтами смелыми,В мир снов чудесных увлеку вас за собой.В тех снах стихи порхают бабочками пёстрыми,Там встретят вас восторг и вдохновение.А если ранены шипами жизни острыми —В стихах моих найдёте исцеление!Тбилиси«Неласков чувств моих сейчас угрюмый омут…»
Неласков чувств моих сейчас угрюмый омут,Мечта о счастье обернулась злой химерой,А молнии Любви в тумане едком тонут,И крах Надежд моих никак не связан с Верой,Что ты, родной, со мной останешься навек…Поверь, я жду тебя, любимый человек!Когда наступит тот желанный час —Давай сбежим с тобой в пустыню, к облакамИль пусть безбрежный Океан укроет нас…Туда, где никому тебя я не отдам!Пока же в сердце чувства сберегу,Не выдам боль свою ни другу, ни врагу.Доверю белому листу вихрь мыслей тайных,Сложу и спрячу в потайной карманОт глаз холодных и от слов случайных,Чтоб их не очернил завистливый туманЛюдской молвы. И пусть их примет Море…Стихи, как волны, пусть живут в родном просторе!Тбилиси, февраль 2021 г.«В пространство взмываю бесстрашною птицей…»
В пространство взмываю бесстрашною птицейИ время легко позади оставляю.Внизу у людей изумлённые лица —Они не поймут, отчего я летаю.Как алмазы в короне, горят мои ЧувстваК людям, вниз долетают Вдохновенья лучи.Бог, надеюсь, простит мне вольность Искусства —Людям Солнце несу! Пусть им светит в ночи.Тбилиси«Снег идёт… А мне чудится, будто цветы…»
Снег идёт… А мне чудится, будто цветыС неба падают в мир мой, в Страну алых маков…Белый Ангел летит на мой праздник Мечты…Оживёт Королева, от счастья заплакав.Птицы желаний, тайных мечтаний,Зачем вы отчаянно прочь унеслись?Белые лебеди воспоминанийСтаей взмывают в лазурную высь.С вами жестоко я обращалась,Не выпускала из мрачной темницы.Но прелесть утраченной вдруг оказаласьСтихов, что безвольно легли на страницы.Ко мне вы с небес слетались доверчиво,В нежный мираж надежд погружая…Птицы, простите! О, как опрометчивоЯ вас не слушала. Каюсь, страдая.Вернитесь, прошу, Вдохновения птицы,Стихов сиротливых не покидайте…А может, самим вам в стихи обратиться?Вот стихами на волю и улетайте!Тбилиси, декабрь 2020 г.«Ложь прикинулась правдой – блестит чешуя…»
Ложь прикинулась правдой – блестит чешуя,Шипит клевета, тихо в сердце вползая.Отравила любовь нашу эта змея.Ты поверил, ушёл. Я стою, неживая,Будто заживо ты меня похоронил,Да и сам как мертвец. Где былые объятья?Кто жестоко мир нашей любви отравил?И кому ты поверил – пытаюсь понять я.Обращаюсь с надеждой – помоги, Жозефина,Мой двойник, сестра, альтер эго, подруга.Отчего умирает любовь? В чем причина?Как вернуть мне обратно любимого друга?Тбилиси, февраль 2021 г.Перевод Анатолия Лобова
Альфред Бодров

78 лет, родился в грузинском г. Кутаиси. Получил среднее техническое образование и работал на оборонном предприятии.
Окончив истфак МГПИ им. Ленина и проработав по специальности около двадцати лет, перешел в СМИ. Литературные пробы публикует с 2018 г. Награжден Дипломом «За видный вклад в сохранение нравственных и языковых традиций в Российском государстве», Дипломом финалиста конкурса имени героев Советского Союза Егорова, Береста, Кантария в номинации «Художественное слово о войне» к 75-летию Великой Победы. Выпустил лирический сборник «Небеса в зарницах», прозаические сборники «Висячая пуговичка», «Аххтиар», «Гримасы судьбы», маленькую повесть «Чикшулуб» (Минск).
Хороший человек
Я, Эмилий Янович Глумилин, – редактор газеты «Золотой лабиринт». Ее учредителем выступает закрытое акционерное общество с тем же названием. Генеральный директор и основатель фирмы – Гонтарь Парсек Арктурович. Похоже, его родители имели какое-то отношение к астрономии. О нем говорили, что он хороший человек, в чем я убеждался много раз. Приходит руководитель какой-то спортивной секции и просит помочь деньгами его команде, потому что ему в этом отказывают. Вот активный фотожурналист просит денег на выпуск книжки «Запах клевера» местного поэта, а на очереди детский благотворительный фонд и т. д. Никому из них он не отказал. В узком кругу своего ближайшего окружения однажды он произнес в мой адрес, мол, «пишет хорошо, но его недолюбливают», имея в виду моих коллег-журналистов. Об этом мне позднее передали знакомые, присутствовавшие при этом разговоре. Я ничуть не удивился, потому что мои коллеги по цеху в большинстве своем негативно относятся к тем из нас, кто не имеет профессионального журналистского образования, а я пришел в районную журналистику с педагогическим дипломом по специальности «история».
Обычно рабочий день в редакции начинался с отваривания картофеля, присовокупления к нему чего-нибудь мясного и хорошего портвейна. В это утро я оказался в редакции без сотрудников, которые разбежались собирать материалы для очередного выпуска. Помыв картошку, я уже собирался поставить ее вариться «в мундире», но не успел. Дверь тихо отворилась, и вошел знакомый корреспондент из другой частной газеты, освещавший вопросы культуры и экологии. Дмитрий спросил с места в карьер:
– Эмилий, ты вот учитель, а мы так, рядом стояли. Скажи, есть ли разница между «Выхожу один я на дорогу» и «В лунном сиянии»?









