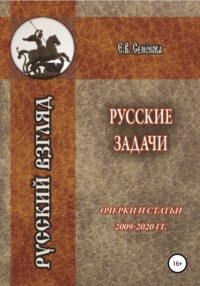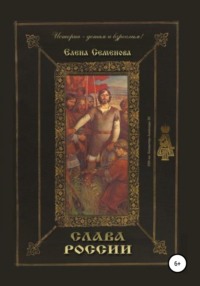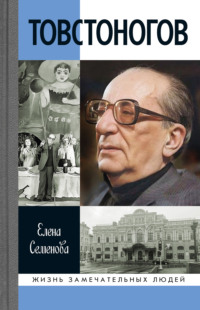Полная версия
Претерпевшие до конца. Том 2
Улучив момент, Аля озабоченно подошла к брату и тронула его за локоть. Тот болезненно вздрогнул, попытался изобразить улыбку.
– Что с тобой? – тихо спросила Аглая. – На тебе лица нет.
– Ничего, так… Нездоровится немного.
– Нездоровится… – повторила Аля. – Вижу.
– Что ты видишь?
– Что худо тебе, вижу. Послушай, я ведь тебя лучше кого бы то ни было знаю. И лучше других понимаю, что с тобой происходит. Когда-то мы были очень близки, помнишь? И мне кажется, что сейчас нам бы стоило вернуть то время. Я… много пережила, ты знаешь… Поэтому всё могу понять, а осуждать мало кого смею. И ещё знаю, какая это мука, когда что-то гнетёт тебя, а поделиться этим гнётом не с кем.
– С чего ты взяла, что меня что-то гнетёт, чем я не могу поделиться? – спросил Серёжа, отведя глаза.
Аглая присела на завалинку, потянула брата за собой:
– Я не имею права лезть тебе в душу и не собираюсь этого делать. Просто послушай, что я тебе скажу. Есть вещи, о которых, как нам кажется, невозможно рассказать кому-либо. Стыдно, страшно, тяжело… Много есть причин. Но от того, что мы держим их в себе, они не уходят. Они, как микробы, поселяются в благодатной среде, которую создаёт им наша трусость, и развиваются, изводя нас день за днём. Только сами они тоже трусливы, и ничего так не боятся, как быть названными вслух. Назовёшь, переступишь через боль, и смотришь – как короста, как грязь присохшая, вся эта мучившая нас дрянь сходит. Когда некому поверить, рассказать, тогда тяжко. По себе знаю. А если есть, то бояться нечего. И стыдиться тоже. Стыдно не о микробе сказать, стыдно трусливее этого микроба оказаться.
– Ты точно Марья Евграфовна говоришь, – заметил Серёжа и, бросив на Алю быстрый, затравленный взгляд, побрёл в дом.
За обедом отец объявил:
– Ты, Серёжа, не беспокойся, долго мы у тебя не загостимся.
– Бог с тобой, живите, сколько нужно, – развёл руками брат. – К тому же на днях мы с Таей и Стёпой перебираемся в Коломенское, так что дом будет свободен.
При этих словах лицо Таи просветлело, и она одарила Сергея полным ласки взглядом.
– Добро, что так, – кивнул отец. – Но мы не захребетники и не приживалы. Сейчас пообсмотримся, как раскачается, а там решим, как самим устраиваться.
– А есть ли идеи? – осведомился Степан Антонович.
– Назад нам дороги нет, тут дело ясное. Там нам жизни не дадут… Значит, надо где-то на новом месте обживаться.
– В деревне?
– К городу я не привычен. Матвею, может, лучше и в город податься. На завод. На рабфак… Он парень с головой, не пропадёт.
Матвей, молчун от природы, родителю не перечил, и по сосредоточенному лицу его невозможно было угадать, согласен ли он с отцовскими планами.
– В колхоз, конечно, вступать не будем. Руками, слава Богу, не обделены, так что не пропадём. Столярным и плотницким делом на кусок хлеба заработаем… Если только будет вперёд хлеб. Его ведь растить надо, а кому растить, ежели товаришши самих хлеборобов в снопы ныне вяжут…
Сильно состарился отец, Аглая сразу приметила. Но и новая беда не надломила его, и, обождав до весны, скрепя сердце, принялся он строить жизнь сызнова.
После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов», осуждавшей «перегибы на местах» при проведении коллективизации и декларировавшей сугубо добровольное вступление в колхоз, власти маленько поутихли, а загнанные силком в колхозы мужики, вооружившись газетами со статьёй «вождя», стали снова выделяться в единоличники, не останавливаясь даже перед тем, что отнятое имущество им возвращать никто не собирался. Имущество – дело наживное, – решили крестьяне, – была бы воля. Пользуясь этим затишьем, отец с семейством обосновался в маленьком домишке в деревеньке на реке Махре, неподалёку от закрытой Стефано-Махрищской обители. Здесь была организована столярная артель, в которой отец стал подвизаться вместе с Севкой, отправив, как и намеревался, Матвея в Москву.
Горькое известие пришло о сестре Любушке. Её вместе с семьёй мужа выслали куда-то на север. Замётов обещал осторожно разведать, куда, но до сих пор не узнал, объясняя сквозь зубы:
– Я и так уже, как бельмо на глазу у начальства. Не сегодня – завтра самого ушлют, куда Макар телят не гонял!
Весь последний год муж был постоянно напряжён. Лишь изредка отходил немного, разговорившись с Нюточкой, развеивавшей его тяжёлые мысли. Он практически не спал, подозрительно прислушиваясь к звукам на лестнице – ждал, что придут. Как-то Аглая предложила:
– Если ты так боишься их, то почему бы нам не уехать из Москвы?
– Куда? – усмехнулся Замётов. – И что это изменит? Где бы мы ни были, под своими или чужими именами, покоя нам знать не придётся. Мы всё равно будем ждать их прихода. Будем ночью вслушиваться в то, как мимо наших дверей уводят наших соседей, а днём прятать глаза от их осиротевших родных. И ждать. Ждать! Когда поведут нас…
– Но ведь ты же столько лет в партии!
– Тем хуже. Значит, я не просто контрик, а предатель. Пожалуй, ещё и в троцкисты запишут. А это уже вышка… КРД ещё может рассчитывать на небольшой срок, КРТД – никогда. С КРТД2 у хана счёт личный.
– Тогда выйди из их партии!
– Выйти? – муж нервно подёрнул губами. – Партия – это капкан. Войти в неё можно, а, вот, выйти… Выйти оттуда можно только под конвоем.
Помолчав, он добавил:
– Если бы я был один, может, и вышел бы… Но я не могу рисковать тобой и Аней…
Эти редкие доверительные беседы всякий раз примиряли Аглаю со своим положением и с этим человеком, который причинил ей столько страданий и в то же время не единожды спасал самых дорогих ей людей.
Два года назад у неё появилась робкая надежда, что под влиянием отца Сергия муж, наконец, обратиться к Богу, обретёт душевный мир. Но надежда эта оправдалась лишь частично. Замётов, действительно, стал много сдержаннее и по выздоровлении Али не позволял себе даже прикоснуться к ней, хотя не раз замечала она, каким огнём вспыхивал его взгляд, когда он смотрел на неё. Такая перемена удивила Аглаю. Никогда ещё не видела она мужа столь обходительным и смиренным.
Вскоре Аля заметила, что он тайком читает её Евангелие и молится, когда думает, что его никто не видит. После больницы Замётов решил, что ей лучше спать в комнате Нюточки, а сам с той поры коротал ночи один. Так продолжалось целый год, по истечении которого Аглая почувствовала, что в душе её не осталось ненависти к «извергу», что она, наконец, простила его.
Тем летом Замётов сделал ей с Нюточкой большой подарок. Наслушавшись от Серёжи с Таей рассказов о чудесных древнерусских краях, девочка загорелась желанием увидеть их. И, скрепя сердце, Замётов подарил ей с Алей эту поездку. Целый месяц длилось путешествие, во время которого восторженная Нюточка увидела и красоты Белозерья и Кижи, и чудные пейзажи Карелии, и Архангельск и много-много других жемчужин русского севера. Сам Замётов остался в Москве, прощаясь, печально сказал:
– Не хочу портить вам радость своим присутствием…
В том прощальном взгляде было столько тоски, преодолеваемой нечеловеческим усилием воли, что сердце Аглаи дрогнуло. Встреча же растопила его окончательно. Никогда прежде она не видела мужа таким радостным. И радость эта была ничем не замутнена, ничего в ней не было злого, жестокого, а одно только счастье, оттого что они вернулись, оттого, как Нюточка бросилась к нему навстречу и повисла на шее. И лишь пробежала тень, когда чуть в стороне остановилась сама Аля. Он постарался не подать виду, но Аглая поняла, как больно обидела его тем, что даже не подошла…
Ночью она долго не могла уснуть и хорошо слышала, что муж не спит также, ворочается с боку на бок, тяжело вздыхая. Аглая тихо поднялась и в одной сорочке прошла к нему. Замётов изумлённо приподнялся, подавил мелькнувший было в глазах огонёк, спросил, стараясь не выдать волнения:
– Что ты, Аля?
Аглая приблизилась и, сев рядом с ним, сказала:
– Я пришла сказать, что простила тебя, Замётов. От всего сердца простила. И ты… прости меня…
Несколько мгновений он оставался неподвижен, поражённый её словами, но, убедившись, что она не собирается уходить, осторожно коснулся рукой её обнажённого плеча. И она не оттолкнула его руки и не передёрнулась брезгливо, как бывало прежде…
Так началась их настоящая семейная жизнь. Увы, Замётову так и не случилось вновь побывать в храме, причаститься Святых Тайн. Осенью двадцать девятого года отец Сергий был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Вместе с ним по «делу группы «Духовные дети» о. Сергия Мечёва» арестовали ещё двух священников и семерых прихожан Маросейского храма. Батюшка был сослан в Северный край… Не решаясь отправлять ему посылки от своего имени, что категорически запрещал Замётов, боявшийся ненужного риска, Аглая каждый месяц передавала помощь его жене, остававшейся в Москве и вынужденной работать, чтобы поднимать детей.
В этот майский день она, как обычно, отвезла матушке полную сумку продуктов и немного денег. Обратный путь был неблизким, тем более, что Москва в последнее время лишилась извозчиков. Трудные времена начались для них ещё в минувшем году, когда нечем стало кормить лошадей. Возвращаться в деревни мужики боялись, зная, что там раскулачивают. В Москве же овса купить было негде. Ломовой извозчик, которого зимой наняла Аглая до Посада, с тревогой выспрашивал отца, как ему поступить. Отец пожал острыми плечами:
– Кобылу со сбруей продай, а сам иди на стройку. Там теперь всего безопаснее…
Вскоре в газетах пропечатали грозное постановление, обвинявшее лошадей в том, что людям не хватает хлеба. Трудящиеся, мол, не доедают, и поэтому правительство вынуждено ввести карточную систему на продукты питания, а извозчики хлебом кормят лошадей! В две недели Москва начисто лишилась привычного средства передвижения. Несчастные лошади, объедавшие трудящихся, пошли на колбасу, получившую название «семипалатинской». «Почему москвичи ходят не по тротуару, а по мостовой? Потому что они заменили съеденных ими лошадей…» – невесело пошучивали зубоскалы.
Вдоволь истоптав ноги, Аглая, наконец, села в трамвай, наполовину пустой в этот час. Нисколько не обратив внимания на других пассажиров, она заняла переднее место левого ряда и стала листать прошлогодний номер закрытого за «легкомысленность» журнала «Домашняя портниха». Этот журнал, исправно выписывавшийся ею два года, был для Али хорошим подспорьем. Из него она черпала немало хороших идей для пошива новых платьев Нюточке, которую Аглае хотелось видеть самой нарядной.
– Здравствуй, Аля… – послышался тихий печальный голос сзади.
Но как ни тих он был, а заставил Аглаю вздрогнуть всем телом. Она медленно обернулась, ещё не веря своим ушам, и замерла, разом лишившись сил и выронив на пол журнал.
– Неужели это… вы?..
– При нашей последней встрече мы были на «ты». Здесь не подходящее место для разговора. Я буду ждать тебя сегодня вечером… И каждый вечер до конца недели. Как тогда ждал… Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8. Вход с заднего крыльца.
Трамвай остановился, и он легко поднялся, поднял оброненный журнал и, с учтивым полупоклоном подав его онемевшей, потерявшей дар речи Але, быстро вышел. Она порывисто метнулась к окну, но трамвай уже тронулся, и она успела увидеть лишь удаляющуюся фигуру в неприметном сером плаще.
Не проходило дня все эти годы, чтобы она не воскрешала перед глазами это лицо, не проходило недели в последние два года, чтобы оно не взирало на неё с желтоватой фотокарточки. Но как же давно перестала надеяться увидеть его вживую! «Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8», – оглушительно стучало в ушах. «Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8» – как пароль для заветной двери. Только бы не лишиться рассудка до вечера!..
Глава 9.
Возвращение
Кто – мы? Потонул в медведях
Тот край, потонул в полозьях.
Кто – мы? Не из тех, что ездят -
Вот – мы! А из тех, что возят:
Возницы. В раненьях жгучих
В грязь вбитые – за везучесть.
Везло! Через Дон – так голым
Льдом. Хвать – так всегда патроном
Последним. Привар – несолон.
Хлеб – вышел. Уж так везло нам!
Всю Русь в наведенных дулах
Несли на плечах сутулых.
Как она читала эти стихи! Каждой строчкой – словно плетью ударяя, и сама же внутри корчась от боли, но стараясь боль эту скрыть за прямостью осанки и спокойствием лица… Цветаева… Её поэтический вечер стал едва ли ни последним воспоминанием Родиона об эмиграции, последним аккордом жизни вовне. Сам бы и не пошёл, пожалуй, не то настроение владело душой, но настояла Евдокия Осиповна. Знакомая с Мариной, она считала себя обязанной быть на её вечере, а Пётр Сергеевич наотрез отказался сопровождать жену. Старый генерал избегал любых публичных мероприятий и откровенно презирал большую часть эмиграции.
– Пойми, Дуня, я не могу находиться среди этих людей! Для меня это мука. Не могу находиться рядом с людьми, каждый из которых может оказаться предателем, а добрая половина являются открытыми сторонниками Триэссерии! Эта твоя Марина со своим мужем… Они симпатизируют большевикам! И тебе бы не следовало ходить на её вечер. Подумать только… Расшаркиваться со всеми этими ничтожествами, слушать глупую болтовню о достижениях Советского Союза и не менее глупую о том, как однажды мы вернёмся под знаменем с двуглавым орлом! К чёрту! Я довольно слышал и видел всю эту публику, и от одной мысли о ней меня воротит с души.
– Марина – великий русский поэт, – спокойно отвечала Евдокия Осиповна. – И это главное. Её поэзия неизмеримо выше политики, её собственной жизни, всего… Она вечна. И поэзия эта, Петруша – русская. Несмотря ни на что. И, как бы то ни было, Марина всегда искренна, и за это я люблю её. А, вот, Гиппиус и Мережковский, ставшие теперь монархистами – подлецы. И они, между прочим, ненавидят Марину. Потому что рядом с ней они жалки…
– Кто бы оспаривал подлость Мережкоппиусов… – пожал плечами Тягаев. – По правде сказать, я, вообще, склонен думать, что среди литераторов крайне мало приличных людей.
Евдокия Осиповна ласково рассмеялась и, поцеловав мужа, заметила:
– Не меньше, чем в любых других профессиях. Так ты не едешь?
– Ни в коем случае. Я не хочу потом добрую неделю видеть всё вокруг в ещё более чёрном свете, чем оно есть. Попроси Родиона Николаевича – я думаю, он составит тебе компанию.
Родион, разумеется, отказать не мог, хотя и сам не питал никакого желания присутствовать на полусветском мероприятии с непременными тягостными воспоминаниями о минувших днях и спорах о днях грядущих.
Но, вот, статная женщина с гордо поднятой головой, подстриженной аля-гарсон, начала читать:
По всем гнойникам гаремным -
Мы, вставшие за деревню,
За – дерево…
С шестерней, как с бабой, сладившие
Это мы – белоподкладочники?
С Моховой князья да с Бронной-то -
Мы-то – золотопогонники?
Гробокопы, клополовы -
Подошло! подошло!
Это мы пустили слово:
Хорошо! хорошо!
Судомои, крысотравы,
Дом – верша, гром – глуша,
Это мы пустили славу:
– Хороша! хороша -
Русь!
И Родион почувствовал неудержимое желание встать, поклониться и поцеловать руку, писавшую такие совсем не женские стихи. Даже если её обладательница по охватившему всех безумию не осознаёт разумом, что есть большевизм. Её стихи выше разума, и в них осознано всё.
Баррикады, а нынче – троны.
Но всё тот же мозольный лоск.
И сейчас уже Шарантоны
Не вмещают российских тоск.
Мрем от них. Под шинелью драной -
Мрем, наган наставляя в бред…
Перестраивайте Бедламы:
Все – малы для российских бед!
Бредит шпорой костыль – острите! -
Пулеметом – пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытья -
Ледяного похода знак.
Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.
От тех самых тоск, не вмещаемых Шарантонами, от положения приживала Европы бежал Родион туда, где ничто не ждало его, кроме команды «в расход». О его планах знали лишь Пётр Сергеевич с женой. Даже Наталье Фёдоровне он не сказал ничего, щадя её впечатлительную душу. Она и другие немногочисленные знакомые полагали, что подполковник Аскольдов собирается перебраться в Мексику.
Многолетняя разведывательная работа генерала Тягаева, канувшая в лету с уходом Врангеля, помогла Родиону наметить путь возращения – через Бессарабию. Там, на границе, контрабандисты давно протоптали надёжный проход. Эти отчаянные люди за хорошие деньги снабдили Родиона всем необходимым – документами, одеждой. Вместе с ними он должен был проделать путь до Украины, а далее действовать самостоятельно. Чтобы не попасть впросак, Родион постарался изучить всё, что можно было узнать об СССР – новые названия городов и улиц, цены и прочее.
Провожая его в Бессарабию, Пётр Сергеевич тяжело вздохнул:
– А, знаете, Аскольдов, я вам почти завидую… Как тому четыре года позавидовал, стыдно признаться, князю Долгорукову. Казалось бы, кадет, человек немного блаженный, хотя безусловной чести, а на старости лет решился пробираться в Россию. И для чего! Потому что совесть не позволяла подбивать на риск других, отсиживаясь в безопасности. Одиннадцать месяцев в харьковском ГПУ, Аскольдов… И совершенное мужество! Говорят, перед расстрелом спокойно умылся, привёл себя в порядок. И погиб… Славно погиб! Глупо, но славно… За Россию и в России. А я, друг мой, буду безотрадно угасать здесь, а затем моя Дунечка похоронит меня в чужой земле.
– Если бы рядом со мной была такая женщина, как Евдокия Осиповна, я теперь, должно быть, направлялся бы в Мексику, – ответил Родион.
– Вас кто-нибудь ждёт? Там? – спросил Тягаев.
– Н-нет… – неуверенно отозвался Родион. – Только моя память. И боль…
Подошёл поезд и, обнявшись и простившись с Петром Сергеевичем, он поднялся в вагон. Народу на перроне почти не было, и длинная, сухопарая фигура старого генерала одиноко возвышалась в лучах заходящего солнца – как печальный и величественный памятник уходящему в лету рыцарству.
Старый князь Долгоруков угодил в лапы ГПУ, как раз использовав бессарабский маршрут. Родион оказался счастливее. Благополучно добравшись до Украины, он, в отличие от покойного лидера кадетов, не стал задерживаться там, а отправился прямиком в Россию…
Россия! Так по привычке называл он страну, по которой ехал день за днём, напряжённо вглядываясь в её лик, стараясь разглядеть в нём то родное, что, кажется, неспособна уничтожить никакая сила. Таких примет немало сохранялось ещё, но как же много исчезло без следа! Как много изменилось до неузнаваемости… И в новом образе явно проступили две приметы: нищета и страх.
Сколь ни бряцали достижениями в газетах, а нищета сквозила во всём: в голодных, оборванных людях, потерянно блуждавших по дорогам, в понурых деревнях, из которых выбросило их осатанелое самодурство власти; в печальных глазах исхудалых детей, тянущих чумазые ручки с пронзительным писком «Хле-е-еба!», превратившимся в вечный аккомпанемент страны торжествующего социализма; в грязи и скученности бараков и общежитий; в пресловутых карточках на продукты, от которых в «отсталые» царские времена ломились столы и прилавки… Наконец, в облике самых обычных советских людей. Серые, испитые лица, серая мешковатая одежда, годная разве что на то, чтобы прикрыть срам. С каких пор мешок с проделанными дырками для рук и головы стал считаться женским платьем? Должно быть с тех самых, когда серый куб – венец советской архитектурной мысли – сделался «дворцом».
Серость, серость, серость… Потускневшие купола со срубленными крестами, потускневшие лица… Запылённая страна, населённая людьми с затравленными глазами, людьми, которые боятся и зачастую ненавидят друг друга. Ненавидят, потому что боятся, потому что вынуждены делить жалкие метры коммуналки, толкаться в нескончаемых очередях, вырывая друг у друга всё… Любопытно, сколько людей пополнили народонаселение зоны меньшей (малой и не назовёшь уже) только по той причине, что соседу приспичило расширить жилплощадь?..
Однако, люди что-то строят. Как в большом муравейнике кипит работа… Что строят они? Тот ли самый рай сатаны, над которым корпели бесы, обманывая слепого Фауста? А эмигрантские фаусты с придыханием листают советские газеты и жаждут остановить мгновенье, и оказываются пожраны пропастью. У Гёте, правда, ангелы всё же отбили у сатаны бессмертную душу заблудшего учёного. Что ж, может, и души всех этих несчастных наивных людей тоже будут спасены… За благие стремления и муки…
В муравейнике есть время отдыху. Тогда серый морок разбавляется режущими глаз всплесками кумача. Страна должна демонстрировать своё единство! В ногу шагают советские люди в день Первомая! Плакаты, знамёна, лозунги… «Уничтожим кулака, как класс!» «Смерть мировому империализму!» «Смерть вредителям!» Ну, и «да здравствует», конечно… Мудрый Сталин… Мудрое ОГПУ… Партия, ведущая нас от победы к победе… Лица на демонстрациях – счастливые! Особенно, у молодёжи… Она, молодёжь, воспитывается комсомолом и искренне верит в светлое будущее, и искренне готова на всё за «дело Ленина и Сталина»… Неискренние сияют всё равно. Попробуй, не посияй – мигом запишут в «подозрительные». Жалко, до боли жалко жар этих юных сердец. На что-то истратят его? Как ещё искалечат эти души?
Демонстрации дополняют парады, а парады – карнавалы. Кружатся под музыку маски, а в них – что-то пугающе страшное. В такие маски, лишённые собственного нутра, день за днём превращаются живые люди.
Всю дорогу вертелись в памяти строки Ивана Савина:
Вся ты нынче грязная, дикая и темная.
Грудь твоя заплевана, сорван крест в толпе.
Почему ж упорно так жизнь наша бездомная
Рвется к тебе, мечется, бредит о тебе?!
Бич безумья красного иглами железными
Выколол глаза твои, одурманил ум.
И поешь ты, пляшешь ты, и кружишь над безднами,
Заметая косами вихри пьяных дум.
Каждый шаг твой к пропасти на чужбине слышен нам.
Смех твой святотатственный – как пощечин град.
В душу нашу ждущую в трепете обиженном,
Смотрит твой невидящий, твой плюющий взгляд…
Почему ж мы молимся о тебе, к подножию
Трупами покрытому, горестно склонясь?
Как невесту белую, как невесту Божию
Ждем тебя и верим в кровь твою и грязь?!
Как ни опасно было, а перво-наперво устремился Родион в Глинское. Добирался окольными путями, боясь лишний раз попасться кому-нибудь на глаза. А лучше бы и не заглядывать сюда вовсе, остался бы дорогой уголок незамутнённым сладостным сном в памяти… Первый раз схватило сердце, когда спускаясь с холма не увидел он за ручьём, превратившимся в болото, белоствольного божелесья… Так и замер Родион на дороге, не веря своим глазам, а затем пошёл медленно по траве, давно забывшей, что когда-то была здесь тропинка.
Лишь ветшающие пни остались на месте заповедной рощи, вырубленной варварской рукой, и поросшая болотной травой падь зияла на месте памятного омута. Долго стоял над ним Родион, мучительно вспоминая всё бывшее здесь, и снова пошёл вперёд, тяжело переставляя переставшие слушаться ноги.
Часть забора, полурастащенного, полуразрушенного, поросшего мхом, ещё стояла, жив был и сад, одичавший и заброшенный. Но за первыми рядами деревьев открылось взгляду пепелище… От того, что когда-то было его домом, не осталось и следа. Лишь кое-где из зарослей татарника уныло торчали бесформенные обломки. Мрачными тенями кривились рядом искалеченные, обугленные фигуры деревьев, и пустыми глазницами выбитых стёкол глядела разрушающаяся оранжерея, в которой Родион когда-то последний раз обнимал мать.
Он стиснул голову и бросился прочь от страшного зрелища. Но это был ещё не конец испытаний. Впереди его ждало распаханное поле и вырытый для какой-то позабытой, видимо, нужды котлован на месте старого кладбища, где покоились останки нескольких поколений семьи Аскольдовых. Ни могил, ни крестов… Только древний вяз, как последний могиканин, ещё взирает с высоты на человеческое безумие и никнет усталыми, серебристыми ветвями. Родион, качаясь, подошёл к дереву, упал на колени, уткнулся лицом в шершавую кору и зарыдал, желая в тот миг лишь одного – умереть сию секунду и больше ничего не видеть и не знать.
…На обратном пути он встретил нескольких крестьян, посмотревших на него с подозрением. Но опустошённой душе Родиона не было дела до них. Даже если бы перед ним возникли сотрудники ОГПУ, ничто не дрогнуло бы в нём. Но они не возникли…
Добравшись до Москвы, Родион снял комнату у старухи-вдовы в подмосковном Пушкине, чтобы быть подальше от доглядчивых глаз. Несколько дней он просто бродил по столице, стараясь не запутаться в новых названиях, с горечью не находя с детства памятного и с радостью – обретая таковое на своих местах. Устроившись работать сторожем и тем закрепив своё положение, Родион решился приступить к главной цели своего приезда.