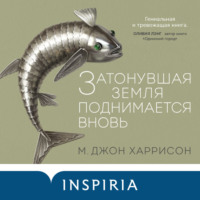Полная версия
Затонувшая земля поднимается вновь

Майкл Джон Харрисон
Затонувшая земля поднимается вновь
Деборе Чадборн
Постепенно затонувшая земля поднимается вновь, и, возможно, вновь падает, и затем вновь поднимается.
Чарльз Кингсли«Размышления в гравийном карьере»
…некоторые вещи тянутся к воде
и ведут себя иначе, когда находятся возле нее.
Оливия Лэнг. «К реке»[1]Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.
Первое послание к Коринфянам, 15:51M. John Harrison
The Sunken Land Begins to Rise Again
* * *Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © M. John Harrison 2020
First published by Gollancz, an imprint of the Orion Publishing Group, London
© С. Карпов, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022
* * *
Один
1
Целый день с мертвецами
После пятидесяти у Шоу началась черная полоса. Так он это формулировал для себя. До тех пор его взрослая жизнь была совершенно нормальной. Он стремился к нормальности. Может, в этом и проблема. Так или иначе, теперь жизнь потеряла направление, и пять лет он провел практически впустую. Годы вставали на свои места, как части шкатулки с секретом, и потом уже не открывались. Он мог внезапно очнуться с полной ясностью, скажем, вечером в многолюдной лапшичной, где беседовал с людьми, которых в первый раз видел, глядя через витрину на улицу, забитую новенькими мотоциклами. А потом все снова ускользало и неделю-две он жил в отрыве от себя.
Лучше всего о том, что с ним происходит, описала его знакомая – одна из нескольких женщин, которые за этот период инстинктивно с ним расстались. Звали ее Виктория, и при встрече с новым человеком у нее была привычка объявлять, что она работает в морге. «А, в этом нет ничего такого, – говорила она расплывчато, как бы ты на это не ответил, – все-таки впервые я увидела труп в четырнадцать».
Мощный заход, особенно в пабе в Хэкни сырым вечером понедельника. У Виктории, сорокалетней дочери врача, были бледно-рыжие волосы, суховатая внешность и подчеркнуто бесстрастный юмор человека, страдающего от высокофункционального романтизма. Она была из тех, кто замечает свою нервозность только отчасти; стоило ей смутно уловить собственное волнение, как она проецировала его на тебя и говорила: «У тебя же сейчас совсем нет на меня времени, да? Слышу по голосу». Сперва это смущало Шоу. Тут нужна особая дисциплина, а то накроет и тебя, а когда сам занервничаешь, начнешь исполнять пророчество, поглядывая на наручные часы. В вечер, когда их познакомили, она много пила и все не замолкала о том, что отец ей когда-то рассказал о подвиде людей, от рождения похожих на рыб.
– Правда, – сказала она. – Рыбы. – И широко распахнула глаза. – Разве не здорово?
Шоу не знал, что о ней и думать.
– Никогда не слышал ничего подобного, – честно ответил он. Больше его заинтересовал морг. – Наверное, это странно – проводить целый день с мертвецами, – предположил он.
На это она ответила с необъяснимой горечью и с таким видом, словно речь шла о каком-то переломном событии в ее жизни:
– Ну, они хотя бы никогда не отвечают.
Виктория – то ли Норман, то ли Найман, к этому времени Шоу уже забыл, – хотела, чтобы ее на что-нибудь уговорили, но у него из всех тем теперь остались только рыболюди. Ее отец рассказывал, что они живут в Южной Америке или где-то в этом роде. Большинство рождались мужчинами, хотя ген передавали женщины. Они могли жить обычной жизнью, делать все то же, что делают люди. Скрываясь в уединении, в глубоких эстуарных[2] долинах к западу от Анд, они – будучи, возможно, сильнее и уж точно умнее заурядных племен, которые их когда-то изгнали, – образовывали собственные сообщества, и те, хоть и маленькие, выживали и даже процветали.
– Если это правда, – сказал Шоу, – почему их мало? Почему я никогда их не видел?
Виктория рассмеялась так, как смех записывают в интернете: ха-ха-ха-ха.
– Потому что мы не в Южной Америке, – напомнила она. – Мы на Коламбия-роуд. И вообще, он просто подшучивал над своей девочкой. – Она с намеком постучала пустым стаканом, а когда Шоу вернулся от бара, добавила: – А может, ты ивидел. Может, все мы рыболюди. В том или ином смысле.
Они встречались еще пару раз, переспали, спорили так, как люди спорят, когда больше чем нравятся друг другу; но когда однажды вечером в «Сперстоу Армс» Шоу попытался перевести отношения на какую-то постоянную основу, ее только передернуло. «Ты вроде бы хороший человек, – сказала она, ненадолго взяв его за руку над столом с пустыми стаканами и остатками картофельных равиоли с лесными грибами, – но ты забываешь, что такое жизнь». Правда ли, спросил он себя. Если да, ему-то как узнать? Как в таком случае работает эпистемология?[3] На улице шел дождь. В паб со смехом вбегали и выбегали люди, с куртками над головами. У Шоу сдали нервы, продолжала говорить Виктория, а ей своих переживаний хватает, чтобы справляться еще и с чужими. «Если честно, никогда не встречала человека в такой панике». На тот момент ее диагноз показался не столько обидным, сколько бессмысленным. Впоследствии Шоу еще не раз оценит его меткость. А жизнь между тем внезапно закрылась, как дешевый занавес, и они уже почти не виделись.
Страдал Шоу не из-за нервного срыва. Для кризиса среднего возраста было уже как-то поздновато. Дело было не в чем-то таком предсказуемом. Может, думал он, в жизни просто бывают вот такие периоды отката; может, нельзя все время жить в полную силу. Стоило ему от этого освободиться, как он перенаправил себя, будто посылку, настолько далеко от Хэкни, насколько это человечески возможно; рванул к юго-западу от Хаммерсмитского моста в тихие пригородные пустоши между Ист-Шином и Темзой, ограниченные с одной стороны Литтл-Челси, а с другой – Шин-лейн. Там он и снял комнату в георгианском домике, где пахло собаками и чем-то жареным.
2
Выброшен волнами
Рядом с Уорф-Террас[4] не было верфи или каких-нибудь намеков, что она когда-то была. Аутентичный георгианский фасад, как встарь, тянулся на пол-улицы, но вот дома за ним уже давно нарезали на ульи из комнат с низкими потолками. Шоу снял комнату с мебелью в доме 17, на самой верхушке. Почти все место в ней занимали одноместная кровать и худосочный шкаф, пахло комиссионкой. Он думал, что в лучшие времена здесь был коридор или какая-нибудь лестничная площадка рядом с более просторной комнатой. Из окна виднелась между зданиями Темза, над которой по утрам поперек приливной волны висели завесы дождя. За домом был садик, заросший пыльной буддлеей.
Дом 17 отстоял от реки слишком далеко, чтобы до него доносило туман; и все-таки в нем всегда было как-то сыровато. Здесь все казались съемщиками. Большинство – такими же зависшими по жизни, как и Шоу. Они заезжали и через неделю съезжали. У костяка постоянных жильцов шел первый этап карьеры в Хаммерсмите или Фулхэме: может, здесь они проживут дольше других, но в конечном счете такие места не определят их образ жизни. Когда придет время, эти люди переберутся не дальше, а выше – в комнаты получше, в собственные коттеджи, в провинцию. А пока что они сами перенимали запах дома. И накладывали поверх него свой букет ароматов мыла, дезодоранта и чего-то еще, что Шоу не мог назвать иначе как запахом успеха. Мужчины носили безукоризненные костюмы «Пол Смит» и рубашки «Тед Бейкер» из Ковент-Гардена; женщины были сплошь менеджерами среднего звена в «Маркс и Спенсер»: работа на износ, говорили они, зато там ни о чем не приходится волноваться. В шесть утра они отправлялись на ежедневную семикилометровую прогулку в Ричмонд-парке – все с идеальной походкой, пилатесовым равновесием, худые, как керамический нож, в термобелье из бамбука и компрессионных колготках; по выходным – бассейн и велосипед.
Местные женщины в особенности являли для Шоу парадокс: с одной стороны, его для них как будто не существовало; с другой – его ретро-рубашки для боулинга, подростковые джинсы и поношенные скейтерские кроссовки, очевидно, раздражали. Когда Шоу натыкался на них по вечерам на лестнице, стоящих по две-три, его готовую улыбку не замечали, а разговор продолжался, только когда он уходил. Он другого и не ожидал.
Шоу с самого начала заметил, что в комнате по соседству творится что-то неладное. В первый день – пение во все горло, которое у него смутно ассоциировалось с «Радио 4»; потом – стук, отдавшийся даже в его половицах; и голос, отчетливо сказавший «Проклятье!», после чего последовала не менее громкая тишина. Затем снова пение – или, может, всхлипы. Шоу улыбнулся и продолжил разбирать багаж. Он уже успел привыкнуть к бумажным стенам и к тому, что из-за них слышно.
Много времени распаковка не заняла. Он привык и к этому. Из дискредитированной жизни в период до его кризиса, какой бы она ни была, Шоу спас пару помятых картонных коробок с неопределенным содержимым; остальное – только одежда, да и та, даже если складывать кое-как, не заполняла восьмилитровую брезентовую сумку целиком. Футболки со слоганами из мира IT и застиранное нижнее белье «Мудзи» прослаивались всякими важными бумажками – налоговыми формами, чеками, уведомлениями об увольнении от того или иного кадрового отдела. Еще он нашел дорожные часы, смартфон второго поколения, у которого батарея не держала заряд, и два-три нечитаных романа из «современной классики», в том числе «Воришку Мартина».
Достав и реабилитировав, что получилось, Шоу отправился знакомиться с соседями. Без ответа: хотя, когда он постучал, померещилось, будто дверь дернулась, словно жилец сперва потянул ее на себя, а потом передумал. На лестничной площадке стоял холод. Через зарешеченное оконце просачивался слабый речной свет. Слышалось, как на Мортлейк-роуд нарастает шум вечернего движения. Шоу приложил ухо к двери.
– Эй? – позвал он. Заметил, что вдоль всего плинтуса в штукатурке идут вмятины и царапины, будто давным-давно каким-то скучным днем кто-то обходил площадку и методично пинал стены. Устав от одной мысли об эмоциональной отдаче, которую наверняка потребовало такое предприятие, Шоу ретировался к себе и там представил, как в сумрачной соседней комнате на краю кровати сгорбился силуэт в рубашке и трусах. Кто-то вроде него самого, размышляющий, открывать дверь или нет.
Неделю-две так все и продолжалось.
Он снова стучался. Приклеивал к двери офисным пластилином записку – «Привет, я недавно переехал в соседнюю комнату», – и взял в привычку поджидать у своей двери, пока на площадке не послышится движение, и тогда резко открывать. После такой засады удавалось заметить только уходящую спину. Но вообще движение на лестнице было, особенно по ночам. Повышенные голоса. В два ночи кто-то ронял на площадке что-то тяжелое, а внизу в это время кто-то не отпускал звонок или неразборчиво кричал с улицы. Соседнее окно с долгим кряхтеньем поднималось в раме, покоробленной за многие годы речным туманом. На следующий день Шоу мог заметить на площадке фигуру, спешившую к общей ванной, которую затем занимали дольше, чем может понадобиться нормальному человеку; внутри потом всегда стоял запашок. Все это казалось удивительно старомодным. Поведением из пятидесятых или шестидесятых годов прошлого века, когда строгая, хотя и отживающая свое общественная мораль вынуждала съемщиков однушек по всему Лондону, от Эктона до Тафнелл-парка, жить, будто в каком-то тайном сне, хотя сейчас такая жизнь считалась совершенно нормальной.
На юго-западе Лондона Шоу было удобно. Здесь уже проживала его мать – в доме для больных старческой деменцией на другом конце Туикенема, по шоссе А316.
В свой первый приход после переезда Шоу застал ее в общей комнате на первом этаже, стоящую с таким видом, будто она только что от кого-то отвернулась, – высокая угловатая женщина в кашемировом комбинезоне и шерстяной юбке цвета вереска, слегка ссутулившаяся, уставившаяся в окно на пустой сад. Она повторяла: «Дни пролетают так быстро. Просто дни пролетают так быстро», – а плечи у нее как будто свело от чего-то среднего между страхом и гневом. Шоу уговорил ее подняться к ней в комнату и там сидел и держал за руку, пока она не успокоилась. Впрочем, даже тогда мать не обращала на него внимания – только встала посреди комнаты и прошептала:
– Сейчас на улице хорошо. Пойду займусь садом.
– Да ты присядь сперва, – пытался убедить ее Шоу.
– Не дури! – закричала мать. – Не хочу я садиться. Я займусь садом, но сперва найду сапоги.
– Иди сюда и сядь, а я попрошу принести нам чай.
Она отвернулась от него всем телом и пожала плечами.
– В молодости я бы в жизни такое не надела, – рассеянно произнесла она.
– В это я верю, – ответил Шоу.
– Нам не принесут чай. Нечего и ждать чай в такой час.
– Давай все равно попробуем. Посмотрим, вдруг получится.
– Ох, где же мои туфли? – спросила она себя голосом четырехлетней. С отвращением взяла свою юбку за подол. – Где мои красивые туфли?
Как оказалось, нет ничего проще чая.
– Вот видишь? – сказал Шоу. – Нет ничего проще.
– Люди только рады услужить, когда им хочется.
Чай пили молча. Часто ее было трудно разговорить, всегда – трудно понять, на какую тему с ней разговаривать. Ему казалось, она ждет, что он начнет вспоминать с ней прошлое, – но только начнешь, как она горько смеялась и смотрела в стену. «Тот раз, когда меня пропоносило по дороге домой из школы, – помнишь? Как же ты ругалась!» Те слова, которые ему бы сказать хотелось, в итоге так и не шли. Их отсутствие только больше наполняло комнату гневом. Шоу казалось, он должен рассказывать ей новости, но в итоге не понимал, что за новости-то – на какую тему. К примеру, связь с родней Шоу не поддерживал; как, подозревал он, и она. Семья для них обоих была темой деликатной. Пересказывать новости страны казалось неуместным. В итоге он всегда возвращался к своим собственным; все равно она по большей части не слушает, знал он.
– Новое жилье, – начал он, – мне там нравится…
– Моя мать была настоящей христианкой, – сказала она внезапно. – Но с нами – никогда. С нами – никогда. – Стоило матери завладеть его вниманием, как она аккуратно поставила чашку и отвернулась к окну. – Скоро пойдет снег.
Шоу тоже поставил чашку. У чая был металлический привкус, словно он разъедал ложку.
– Так май же, – напомнил Шоу.
– Люблю снег. В нашей молодости снежинки падали в море, большие, как пенни, – а потом не совсем своим голосом: – Я очень быстро разлюбила родителей. Они меня унижали, когда мне еще и пяти не исполнилось. Я была милой смирной девочкой, но нервной. Все время нервничала. Любила пляж. Любила рыбалку. Любила рано вставать и поздно ложиться. – Она пренебрежительно усмехнулась. – Слишком волновалась в одиночестве, слишком волновалась в компании. Лучше всего мне было с кем-нибудь наедине. Я боялась отца и очень боялась деда. Дед подарил мне свою старую удочку для морской рыбалки, но рыбачить мне больше нравилось с дядей. – Ее лицо преобразила широкая улыбка. – Снег на море!
– Лето же, – сказал он, – снега не будет.
Она смотрела в окно и тихо улыбалась.
Шоу попробовал еще разок.
– Мне нравится в новом жилье, – сказал он, – но там грязновато. – Он уже начал избегать ванную: она была без окон, с виду больше, чем позволяли размеры лестничной площадки, и освещалась сорокаваттной энергосберегающей лампочкой, заполнявшей помещение ровным желтовато-бурым сумраком. Посреди протертого линолеума в шахматную клетку стояла старомодная чугунная ванна – со сколотой эмалью, с затвердевшим у кранов известковым налетом и несмываемой отметкой уровня воды – какого-то химического вида. Была там и отдельная душевая кабинка. Включишь кипяток – из слива тянет плесенью.
– Когда я зашел в туалет в первый раз, мне показалось, я что-то увидел в унитазе! Решил, что ноги моей там не будет, пока лично все не вычищу.
Он и ванну пытался вымыть – перед тем, как постирать в ней нижнее белье в вечер пятницы, когда дом вроде бы опустел. Приливная линия так и не поддалась – медьсодержащая, скользкая, запечатлевшая какое-то таинственное половодье.
– Тебе сколько лет? – спросила мать. – Пора бы уже вырасти.
Шоу пожал плечами.
– Не валяй дурака, – предупредила она. – Не жди, пока начнется жизнь. Я вот вечно ждала, когда она начнется. Мне все подряд казалось удачным началом, а потом оказалось, что это и есть жизнь.
– Это у всех так, – сказал Шоу.
– Правда? Все так живут, значит?
Какое-то время оба молчали. Она смотрела на что-то в саду. Шоу смотрел на нее.
– Все, что должно было случиться в двадцать лет, – продолжила она, – у меня растянулось на всю жизнь. Мне семьдесят пять, а я только-только накопила достаточно, чтобы, наконец, начать. – Потом она села, набрала в рот чай, наклонилась над столом и – глядя Шоу прямо в глаза, как младенец, – выпустила чай струйкой на скатерть. – Что мне теперь осталось? – спросила она. – Вот ответь.
Он ненавидел ее моменты просветления, но они всегда были ненадолго.
Когда он поднялся, чтобы уйти, она уже опять смотрела в окно. Дождалась, пока он прикроет дверь, и тогда сказала удивленным голосом:
– Джон! Джон! Не уходи! – но только он вернулся, как снова завела свое «Дни пролетают так быстро», – пока он не пожал плечами и не закрыл за собой.
– Я не Джон, мам, – сказал он. – Не угадала.
Согласно политике дома престарелых, персонал обращался к своим подопечным по имени; но его мать всегда называли «миссис Шоу».
Он нашел у себя в комнате телефонную розетку и оплатил связь. Через несколько дней телефон зазвонил, и голос в трубке спросил:
– Это Крис?
– Крис здесь не живет, – ответил Шоу.
– Его нет? Криса?
– Видимо, вы ошиблись номером.
Голос назвал номер, но Шоу разобрал его только наполовину.
– Крис здесь не живет, – повторил он. – Вы по поводу телефона? – Без ответа. – Думаю, вы ошиблись. – Когда клал трубку, расслышал, как голос сказал: «Видимо, я ошибся номером». И тут же начал переживать, что, ослышавшись и не узнав кого-то знакомого, пропустил свой первый звонок на новом месте. Снова снял трубку и набрал 1471 на случай, если получится узнать номер, с которого звонили. Перебрал вещи в поисках записной книжки, которая, как он думал, у него есть, но это оказался дневник десятилетней давности с записью от 1 января: «Будь общительней».
3
Рыбка-талисман
В тот же день он позвонил Виктории Найман.
– Здравствуй, незнакомец, – сказала она. – Что там с тобой происходит?
– А что там стобой?
– Да не особо что. – Она ненадолго задумалась. – Машину вот купила. Это же здорово, да? Я всегда хотела машину.
И после паузы:
– Ты в порядке?
Шоу сказал, что в порядке. Пришлось признать, что у дома, где он теперь живет, есть свои минусы – не смог промолчать насчет унитаза, шума из соседней комнаты, – но зато рядом река, а он как раз увлекся ее психогеографией. Он много гуляет, рассказывал Шоу Виктории, продвигается дрейф за дрейфом[5] на север по Брент: от лодочных верфей у ее слияния с Темзой, мимо Уорнклиффского виадука и зоопарка, в сторону шоссе А40 у Гленфорда. Там сплошь больницы и спортивные парки, грязь и детоубийства. «Но и пабы удивительно хорошие». Виктория выслушала отчет молча; потом заявила, что – по крайней мере, на ее взгляд, – он какой-то подавленный. Сегодня он ничем не занят? Потому что она без проблем может заехать после работы – может, завезти какой-нибудь подарок на новоселье? Шоу сказал, что не надо, ей же это крюк, не стоит того, у него правда все нормально.
– У меня правда все нормально.
– С чего ты взял, что для меня это крюк? – спросила Виктория и добавила: – Поверь, судя по голосу, тебе хреново.
– Ну спасибо.
– Не благодари, пока не увидишь подарок.
– Я сперва услышал, будто ты сказала «на невеселье», – сказал Шоу.
– Жди меня в семь или, если будут пробки, в полночь.
Вдруг заволновавшись, он предложил:
– Давай тогда встретимся не у меня. Давай где-нибудь еще.
И они пошли в паб на Кинг-стрит в Хаммерсмите, потом перекусили форелью тандури у индуса на рынке чуть севернее «Премьер-Инн». Виктория как будто нервничала.
– Как тебе моя прическа? – спросила она.
Какие-то прореженные волосы, с центральным пробором, срезанные с каким-то искусственным непрофессионализмом чуть выше подбородка, они жидко липли к лицу и лбу, устало кучерявились на концах.
– Нео-«синий воротничок», – сказала она. – С некоторых ракурсов смотрится очень выгодно, хотя уже вижу, что ты не согласен.
За вечер она опустошила бутылку домашнего красного – «Не на что смотреть. В этом без изменений», – и рассказывала о своей машине. Шоу сказал, что остановится на пиве. Когда он признался, что из него никудышный водитель, она опустила глаза на обугленные хвосты и окрашенные в красное останки рыбы в тарелках, на прозрачные кости, напоминающие окаменелые отпечатки листьев, и сказала:
– А из кого кудышный? Дело не в вождении. Теперь я часто выбираюсь к морю. – Она рассмеялась и неловко изобразила, как крутит руль. – На север и на юг. Гастингс и Реден. Очень медленно. И Дандженесс, конечно.
Потом:
– Кажется, я переросла Лондон.
И наконец:
– Мне нравится, как выглядят позвоночнички у этих рыбок, а тебе?
– Я вижу только одно, – сказал Шоу, у которого почему-то полегчало на душе, – свой ужин.
Потом признался:
– Когда мы встречались в последний раз, я был не в лучшей форме.
– Мало что изменилось. – Она рассмеялась над его выражением лица. – Да брось! Понятно, что кто бы говорил! Я-то уже с тринадцати не совсем в своем уме…
Шоу подлил ей еще.
– Это тогда ты увидела труп? – спросил он с надеждой.
– Хотя у меня наступал момент просветления – где-то в 2005-м, в сауне. – Она оглядела ресторан с таким видом, будто ожидала увидеть знакомого. – В конце концов в плане просветлений привыкаешь брать, что дают. Людям нужно ощущение, что они остепеняются.
– Да, это штука важная, – согласился Шоу, хотя понятия не имел, о чем это она говорит. Виктория все равно его, похоже, не слышала.
– Вообще-то я даже не уверена, что это стоит называть просветлением, – сказала она и добавила: – Кстати об этом, как там твоя мать? – А потом, не давая времени на ответ: – Знаю-знаю, тебе не хочется всем этим заниматься. А кому захочется? Моя вот совершенно слетела с катушек в тот же день, когда умер мой отец. Если честно, после этого мы с ней почти не виделись. Я жила здесь, она – по-прежнему где-то в Мидленде, на севере. Мне казалось, у нее – своя жизнь, у меня – своя.
Он тут как раз думал на эту тему, ответил Шоу, и решил, что одни семьи держатся вместе, а у других – скорее баллистические традиции. Вторые очень быстро разучиваются терпеть и прощать друг друга. Не в силах уладить конфликт, члены семьи разлетаются в стороны, заводят себе новую жизнь. Но и она не приживается.
– Они, – говорил он, – теряют способность поддерживать любой миф, кроме своего собственного.
Виктория уставилась на него так, будто он ненадолго стал интересным незнакомцем. Потом сказала:
– Они оба уже умерли.
Виктория слишком много выпила, чтобы садиться за руль. Ее машину они оставили в Хаммерсмите, где она припарковалась, а сами прогулялись пешком вдоль реки до дома 17 по Уорф-Террас. Там она деловито обошла комнату, словно пришла купить подержанную мебель.
– Кровать что-то маловата, – сказала она, весело глядя на него. Перебирая книжки, нашла Джона Фаулза; скривилась. – Не может быть, чтобы он тебе нравился. Не верю. – Потом: – А вот и пресловутая общая стенка! – Она постучала по ней костяшкой, словно проверяла древнюю штукатурку на прочность. Приложила ухо. – Сейчас он вроде бы затих, твой неведомый сосед.
Шоу нашел, что им еще выпить, – остатки на донышке литровой бутылки «Абсолюта», такой давней, что ее плечи стали липкими от вязкого грязного воздуха Лондона, – и, сидя на краю кровати, развернул гостинец на новоселье.