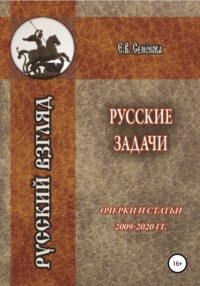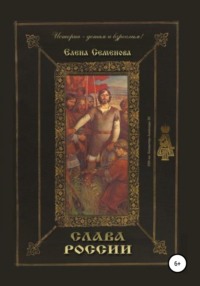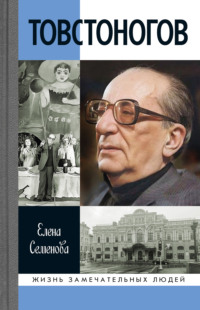Полная версия
Честь – никому! Том 1. Багровый снег
– Пли, сволочь!
А ведь верил, что его тронуть не посмеют, что не поднимется рука на атамана…
Походный атаман с донцами с родной земли не уйдут, это ясно. Что же, бросать полторы тысячи воинов при таких скудных силах, распыляться? Неразумно. Так и лучше остаться Добровольцам на Дону, переждать в зимовниках, а затем, когда всколыхнуться восстания…
Наконец, все участники совета заняли свои места, и Лавр Георгиевич открыл заседание. Первым слово взял Алексеев. Простое лицо, но умные глаза, смотрящие внимательно из-под очков, профессорская манера держать себя, менторский тон – говорил скрипуче, словно читая одну из своих многочисленных лекций:
– Я считаю, что при уходе отряда на зимовники невозможно не только продолжение нашей работы, но даже при надобности и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасения доверивших нам судьбу людей. В зимовниках отряд очень скоро будет сжат с одной стороны распустившейся рекой Дон, с другой стороны железной дорогой Царицын-Торговая-Тихорецкая-Батайск. Причём, все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнения людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи поставит нас в стороне от хода событий в России…
– Ход событий в России, безусловно, важен, – подал голос атаман Попов. – Но для меня и для моих донцов не менее важен ход событий на Дону. Мы не можем покинуть Дон в тяжёлый час. Казачество…
– Казачество совершенно не понимает ни большевизма, ни «корниловщины»! – раздражённо перебил Деникин осипшим голосом. Он покинул Ростов в гражданском платье и лёгких ботинках, не успев даже справить себе сапоги, и после долгого пути по снегу сильно простудился, и теперь сидел на совещании совершенно больной. – С нашими разъяснениями соглашаются, но плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу из «белого» и из «красного» движения… Сегодня спрашиваю одного местного деда: «За кого ж будете?» А он прищурился этак хитро и ответствует: «А кто победит из вас, за того и будем!» Им чужды обе идеологии, и они не хотят ввязываться в чужую для них распрю, пока большевики не схватили их железной рукой за горло!
– В ваших словах много горькой правды, Антон Иванович… Но вы ведь сами сказали только что: пока большевики не схватили за горло. Да ведь теперь схватят! И поверьте, казаки не станут терпеть этого! – усталый голос Попова оживился. – Пройдёт совсем немного времени, и восстания заполыхают по всему Тихому Дону! И наше дело быть рядом и, по возможности, приближать этот момент, и поддерживать восставших! Господа! Я прожил на Дону всю жизнь, равно как и мои предки. Я знаю казаков! Да, теперь они остерегаются ввязываться в кажущиеся им сомнительными предприятия, но это ненадолго! Кто знает, что ждёт вас на Кубани? А здесь, ручаюсь вам, восстание и поддержка казачества не за горами. Лишь обождите немного. Пассивность казаков временна, они не снесут красного ига и неизбежно восстанут. Я знаю историю, быт и нравы их, и могу утверждать это и отвечать за свои слова.
Атаман провёл рукой по утомлённому, немного отёкшему после нескольких бессонных ночей лицу. Вся жизнь Петра Харитоновича Попова прошла на Дону. Отец его организовал первый Донской музей, и от него будущий атаман унаследовал живейший интерес и любовь к культуре и истории родного края. Петру Харитоновичу не пришлось бывать на фронте, командовать армиями, но деятельность его вряд ли была менее значима. Именно он пестовал будущие кадры Русской Императорской армии в Новочеркасском военном училище, которое возглавлял. Десять лет Попов прослужил в Московском военном округе, неоднократно руководя военными учениями, превосходно овладев премудростями стратегии и тактики, столь пригодившимися ему в смутные времена. После революции генерал сделался одной из ключевых фигур на Дону. Когда в Новочеркасске стали заправлять «Областной Исполнительный Комитет» и «Военный отдел», и их нахальные представители хотели разогнать войсковой штаб, атаманскую канцелярию и правительство Дона, Пётр Харитонович в отличие от многих офицеров, подавших в отставку, вступил в борьбу: он организовал охрану находящихся в опасности учреждений и пригрозил «отделу» перевешать его членов. Попов мгновенно понял, что антигосударственным, антиказачьим организациям можно противопоставить только другую мощную организацию – казачью и выступил инициатором создания Союза Донских Казаков, благодаря которому на Дону установилась власть атамана Каледина. Временное правительство обвинило последнего в мятеже и хотело отдать под суд, но Пётр Харитонович быстро собрал верные войска и отправил правительству телеграмму: «С Дона выдачи нет». Мудрый и дальновидный Попов был ближайшим советником Каледина, а затем и его преемника Назарова. От последнего унаследовал Пётр Харитонович пост Походного атамана. Менее двух недель назад в новогоднюю ночь Назаров сдавал ему штаб. Обрисовав общее положение, он обратился к присутствующим офицерам:
– Все вы знаете Петра Харитоновича, прошу выслушать и его.
Попов, невысокий, уже переступивший полувековой рубеж, поднялся:
– Вы меня знаете, знаю и я вас всех за отдельными исключениями. Но не все офицеры как Войскового, так и штаба Походного атамана присутствуют здесь. Это плохая примета. Значит – не все сочувствуют делу борьбы с большевиками и, вероятно, собираются от неё уклониться. Предупреждаю, что борьба будет продолжаться до полной победы над большевиками и никаких компромиссов. Сил у нас немного, но тот, кто сражается на фронте, имеет сильный дух и непреклонную волю к борьбе до победы. Этим мы и победим…
Накануне Пётр Харитонович пытался убедить атамана покинуть Новочеркасск и не рисковать жизнью без всякой нужды, но тщетно: Назаров счёл своим долгом остаться на своём посту до конца… И, вот, теперь это совещание, отчаянная попытка убедить Добровольцев не покидать Дон. Знал Попов, что Корнилов сам склоняется к этому решению, и не жалел сил, чтобы укрепить в нём Верховного, но не слабее было влияние других членов совета…
Снова заговорил, монотонно, не меняя интонации, Алексеев:
– Я должен вам сказать, Лавр Георгиевич, что настроение офицерского состава нервное и неуверенное. Слухи об уходе в зимовники, не успокаивают, а, напротив, усугубляют это нежелательное состояние, порождают нарекание на лиц, ответственных за судьбу тех, кто во имя служения Родине вверил свою судьбу нашей организации. Идея движения на Кубань понятна массе, она отвечает и той обстановке, в которой армия находится… Она требует деятельности, от которой не отказывается большая часть армии. К тому же в центрах – Москве и Петрограде – по-видимому, назревают крупные события. Вывести на это время из строя, хотя и слабую и усталую, армию можно только с риском, что она навсегда утратит своё значение в решении общегосударственной задачи.
– Михаил Васильевич, – в голосе Корнилова, разом напрягшегося, хотя и сохраняющего непроницаемое выражение лица, звякнуло с трудом сдерживаемое раздражение, – крайне сожалею о существовании в армии толков и пересудов, волнующих массы. Распространением их занимаются, насколько мне известно, чины политического отдела, относительно которого усердно прошу вас принять меры. – При упоминании политического отдела на лицо Верховного набежала туча. Чины его ещё в Новочеркасске распространяли слухи о том, что Корнилов собирается объявить себя диктатором и всех их разгонит. После ряда подобных инцидентов Лавр Георгиевич пришёл к окончательному выводу, что работать с этими говорунами и шкурниками нет никакой возможности, и принял решение разогнать их при первой же возможности. Теперь же в любых слухах Верховный подозревал именно политический отдел. – Что касается государственных задач, то я признаю, что при существующей организации управления и постоянном вмешательстве политического отдела в вопросы, его не касающиеся, это невозможно! А, стало быть, единственная цель движения на Кубань – поставить армию в условия возможной безопасности и предоставить возможность её составу разойтись, не подвергаясь опасности быть истреблёнными…
– Эту цель также нельзя недооценивать… – сухо заметил Алексеев.
– Ради этой цели незачем предпринимать столь дальний путь! – возразил Пётр Харитонович. – Послушайте же! Красная гвардия сильна числом своих людей и вооружением, но слаба духом. Красное командование старается привлечь казаков на свою сторону. Если ему это сделать удастся – это будет казачьей трагедией. Но им это не удастся! Мы уйдём в степи и там переждём исцеления казаков от нейтралитета. Придёт весна, казак поймёт, где правда и право, и встанет на их защиту!
– Я согласен с этим, – заявил Богаевский, покрутив острый, загнутый кверху ус. – Дон скоро поднимется, испытав всю прелесть советской власти, и нам не стоит идти так далеко, не зная ещё точно, как нас встретят на Кубани!
– Постойте, господа, – вступил в полемику сухопарый, с седой бородкой клинышком, Эльснер. – Как интендант, призываю рассмотреть чисто материальный вопрос. Степной район, конечно, пригоден для мелких партизанских отрядов, но как разместится в нём Добровольческая армия в пять тысяч ртов? Зимовники удалены друг от друга и не обладают достаточным количеством жилых помещений и топливом. Расположиться там мы можем лишь мелкими частями, что затруднит управление. А снабжение? Допустим, что зерна и скота нам худо-бедно хватит, а оружие? Одежда? Как быть с другими потребностями армии?
– А большевики точно не оставят нас в покое там, – подхватил Деникин.
– Кубань – богато обеспеченный край, где ещё держится борющаяся с большевиками власть, и там мы сможем заново начать организационную работу…
– Это ещё вилами по воде писано, – покачал головой Богаевский.
– Что же, если говорить о материальной части, то можно и о материальной, – послышался негромкий, рассудительный голос сидевшего в углу Лукомского. – При нашей армии более двухсот раненых и большой обоз, который нельзя бросить. Обозные лошади уже теперь имею жалкий вид и еле переставляют ноги. На пути к Екатеринодару нам нужно дважды переходить железную дорогу, где несомненно нас будут ждать большевистские бронепоезда. Раненых будет становиться всё больше, лошади вконец вымотаются. А к тому усилится распутица, что ещё больше затруднит наши передвижения. О том же, что происходит на Кубани, мы ничего не знаем. Что если наши расчёты ошибочны? Лучше поступить, как предлагает атаман Попов: перейти пока в район зимовников. Там, вдали от железных дорог, защищённые с одной стороны Доном, мы сможем переформировать армию, заменить лошадей, исправить обоз и просто перевести дух. В ближайшие два месяца большевики не посмеют отойти от железных дорог, а, если отойдут, будут биты. А через два месяца, в зависимости от обстановки, можно будет принимать решение.
За окном начало смеркаться, и стоявший подле него Марков, молчавший всё это время, резко поднял голову и сказал:
– По мне, так нечего за семь вёрст ходить киселя хлебать. Зимовники так зимовники! Давайте уже и порешим на том!
– Горяч ты слишком, Серёжа, – покачал головой Романовский, хмуря благородное, холёное лицо. – Не блох же ловим! Зимовники! А кто сказал, что зимовники смогут обеспечить армию? Лично я в этом сомневаюсь!
– Сергей Леонидович прав, – задумчиво вымолвил Верховный. – Уже сумерки, а мы всё спорим… Разговоры погубили нашу дорогую Родину, а мы и теперь всё разговариваем… – он помолчал, вспомнив, что схожие слова говорил Каледину, когда решил уводить армию из Новочеркасска в Ростов, и атаман почти дословно повторил их перед тем как пустить себе пулю в грудь: «От болтовни Россия погибла». – Поскольку точной информации о зимовниках у нас нет, то нужно провести разведку. Пусть атаман Попов со своими Донцами отправляется туда теперь же. Мы же, имея ту же цель, пока двинемся другой дорогой, чтобы в случае неудовлетворительных результатов разведки, иметь возможность для манёвра. И вот ещё что… Нужно выяснить, что происходит в Сибири и наладить связи там… Туда отправится полковник Лебедев. Есть ли у кого-нибудь вопросы или ещё какие-нибудь соображения?
Алексеев недовольно крякнул, но ничего не сказал. Промолчали и остальные члены совета.
– В таком случае вы свободны, господа!
Собравшиеся стали расходиться. Корнилов вышел следом за всеми и уже на крыльце стал прощаться с атаманом Поповым, покидавшим станицу в сопровождении двадцати казаков.
– Значит, вы меня известите немедленно, как только переговорите со своими. Время не терпит! Вы сами знаете, в каком положении дела, – говорил Лавр Георгиевич, всматриваясь сквозь сумрак в лицо Петра Харитоновича.
– Так точно, Ваше Высокопревосходительство, – кивнул тот и вскочил в седло.
Корнилов проводил взглядом стремительно удалявшуюся конную группу и возвратился в хату. Закопчённая керосиновая лампа чадила, тускло освещала помещение, не достигая углов, и находившиеся в нём предметы отбрасывали на стены чёрные, длинные тени. Одна из теней вынырнула вперёд и, обретя облик корнета Хаджиева, поставила на стол скромный ужин. Лавр Георгиевич сел и, прищурившись, спросил верного адъютанта:
– А, что, Хан, есть ли у вас..?
Он не успел докончить фразы, и всё понимающий текинец, с обожанием смотревший на своего «бояра», тотчас поставил на стол бутылку водки и рюмку.
– Браво, Хан. Что бы я делал без вас, – глаза генерала потеплели, но улыбка так и не коснулась губ. Улыбка, вообще, был редкой гостьей на его маленьком, желтоватом и всегда сосредоточенном лице.
Кто-то постучал в дверь, и на пороге возникла невысокая, плотная фигура Деникина, почти нелепо смотревшаяся в штатском пальто.
– А, Антон Иванович! Милости прошу! Разделите со мной эту солдатскую трапезу, – Корнилов приветливо пригласил гостя садиться рядом с ним.
– Спасибо, Лавр Георгиевич, – Деникин глухо закашлялся и сел.
Верховный с заговорщическим видом обернулся к Хаджиеву:
– А что, Хан, найдётся у вас ещё рюмочка?
Текинец с готовностью подал ещё одну рюмку и, наполнив обе, отодвинулся на почтительное расстояние.
– Где вы, Лавр Георгиевич, добываете неисчерпаемой количество влаги, так необходимой в такие тяжёлые дни? – усмехнувшись, осведомился Антон Иванович. – Проклятье, никто не хочет продать моему Малинину и нигде не найти!
– Вот Хан знает, где находится запас, – кивнул Корнилов на адъютанта.
– Хан, пожалуйста, скажите Малинину, где вы добываете, – попросил Деникин.
– Тогда, Ваше Высокопревосходительство, вы не удостоите вниманием наш скромный обед, – резонно отозвался Хаджиев, блеснув из полумрака белозубой улыбкой.
Корнилов чуть улыбнулся, одобрительно кивнув:
– Хан, нет ли у вас ещё для одной рюмки?
Вечер быстро клонился к концу, и, кажется, все ясно понимали, что это последний относительно мирный вечер перед чредой тяжёлых испытаний, ожидающих армию, а для кого-то и вовсе последний в жизни. Деникин, имевший мысль ещё раз попытаться склонить Верховного к походу на Кубань, так и не затронул эту тему, не желая омрачать этот тихий вечер, а вместе с ним и без того нерадостное настроение гостеприимного хозяина. Тем не менее, Лавр Георгиевич без слов понимал, какие невысказанные слова тяготят его сподвижника, но также не обратился к больному вопросу, оберегая иллюзию последнего покойного ужина и не видя смысла в новой дискуссии, на которую и так ушёл почти весь день.
Когда Антон Иванович ушёл, Верховный отпустил адъютанта и, задув лампу, опустился, не раздеваясь, на кровать. Хата, в которой он остановился, напоминала ту, в которой прошли его детские годы. Велико расстояние между Доном и Сибирью, а уклад казачьей жизни схож и здесь, и там. Стены, белёные глиной, на полу половики, столы, покрытые белыми скатертями, небольшое зеркало, обвешанное полотенцем, лубочные картинки… А в углу мерцает лампада перед большой иконой… Икона в хате была единственной и изображала сцену положения Христа во гроб. Лавр Георгиевич смотрел на неё, не отрываясь. Ему чудилось, что неслучайно именно эта икона оказалась в хате, что в этом есть какой-то грозный символ. Один из самых трагических мгновений во всём Евангелии. Тот, Кто пришёл спасти Божий народ, предан, оболган, распят и, вот, положен во гроб. И даже самые преданные отреклись и спрятались, боясь навлечь на себя бедствия. И, кажется, нет никакой надежды… Но ведь минет всего лишь два дня, и Ангел возвестит: «Что ищете живого меж мёртвых?» С каким вдохновением читал этот Евангельский стих станичный священник, обучавший казачат в Каркаралинской приходской школе, где получал азы образования девятилетний сын хорунжего Георгия Корнилова… И как просто и понятно звучало всё в устах бесхитростного батюшки… И послышался, словно наяву, дребезжащий, но вдохновенный голос: «Да воскреснет Бог, да расточатся врази его…» Рука сама собой сотворила крёстное знамение, но легче на душе не стало. Какое-то дурное предзнаменование таилось в скорбном образе, на котором ничто не напоминало о грядущем Воскресении…
Краткая передышка перед походом почти не сняла усталости. Да и что могло снять её, накапливаемую месяцами, годами? Колесо жизни помчалось вдруг с такой невиданной скоростью, что за один день событий стало выдаваться больше чем некогда в месяц. И событий – сплошь страшных, постыдных, трагических. Долго-долго ещё не придётся мечтать об отдыхе ни России, ни армии, ни её командующему. Да и сколько времени нужно, чтобы отдохнуть от всего этого? Кажется, и года мало будет… А, между тем, для армии так важен отдых! Атаман Попов и другие сулят его в зимовниках, Алексеев – в Екатеринодаре… И кто из них прав? Сердце Верховного определённо тяготело к плану Походного атамана, столь дельно поддержанному Лукомским. Но… Что если всё-таки ошибка? Попов ратует в этом вопросе, в первую голову, о своих казаках, о Доне, отодвигая на второй план остальную Россию. На казаков уверенно положиться нельзя. Казаки – себе на уме. Конечно, они восстанут против красных банд, тут и сомнений нет. Но – когда? Не будет ли это слишком поздно? И во что выльется их восстание? Освободят родной Дон и айда по хатам да базам? А остальное – не их забота. Казаки воевать не хотят, казаки хотят заниматься хозяйством, казаки не пойдут освобождать остальную Россию, если не почувствуют ясно, что это необходимо им самим. Попов думает о казаках, которые непостоянны, а Верховный обязан думать о своих Добровольцах, принимающих муки и смерть за Родину, верных долгу и вверивших свои судьбы не кому-нибудь, а именно ему, генералу Корнилову.
Так же точно рассуждал Лавр Георгиевич и чуть раньше, уводя своё войско из Новочеркасска в Ростов, несмотря на уговоры Каледина этого не делать. А вот Алексеев, в противовес атаманам, готов строить планы на всю Россию. В центрах назревают события! Чёрт бы взял эти центры с их политиками… Что путного может созреть в тамошних болотах? Нет, довольно политики и разговоров! Только – действие: твёрдое и жёстокое. Калёным железом выжигать заразу большевизма, отравляющую и убивающую весь русский организм! Перевешать всех этих Лениных и Троцких! И пусть вопят стогласно: «Корнилов – палач!» Корнилов лишь истребит заражённые клетки организма, пока болезнь окончательно не уничтожила его целиком. Неблагодарное дело, но прошло время белоручек! Эти проклятые белоручки, играя в гуманность и развязывая руки бандитам и мерзавцам, довели Россию до невообразимого позора. Теперь нужна сильная воля и твёрдая рука. Эта рука должна извести под корень смертельную заразу, а после наступит время лечения. Но уж это дело других. Пусть собирается Учредительное собрание, устанавливает любую форму правления, принимает необходимые законы… Корнилов примет их и подчинится. Уйдёт на покой, станет писать мемуары, а, всего лучше, посвятит оставшиеся дни географии, составит подробное описание Кашгарии и других местностей, в которых так счастливо совмещал он разведывательную деятельность с исследовательской. А покуда нужно давить, давить распоясавшихся бандитов, укравших власть. Только много ли удастся такими малыми силами? Куда поведёт он завтра своих верных офицеров и восторженных боготворящих его юнкеров, ещё не успевших узнать жизни? На смерть? Во имя чести, во имя России… На смерть, но смерть эта будет славной и, может быть, послужит примером.
Сон упрямо не сходил на усталую голову, мысли теснились, споря друг с другом, и воспалённые глаза Корнилова сверлили ночную тьму. За окном поблёскивали огни костров, доносились негромкие голоса, ржание лошадей и лай собак. Кажется, многим не спалось в эту ночь…
И всё же – зимовники или Кубань? Неотступно терзал Верховного нерешённый вопрос. Совет с небольшим перевесом ратует за Кубань… Алексеев… С ним соглашаться не хочется. Слишком погряз в политике Михаил Васильевич, хитрит, интригует со своим политическим отделом, который давно бы разогнать! Екатеринодар – база крепкая, но что известно о кубанских делах? Ничего! Как в старой сказке предлагается пойти туда, не зная куда… За синей птицей, к чёрту на рога, как Сергей Леонидович нынче определил метко. Но далеко улетела наша синяя птица – излови-ка! И оружия – нет. В зимовниках оружием не разживёшься, а в Екатеринодаре… Нет, не нужно идти в Екатеринодар. Ничего неизвестно о Екатеринодаре. И Попов со своим отрядом не пойдёт с Дона, а распылять силы – разумно ли? Екатеринодар! Кубанская Рада, с которой столь дружен Алексеев… Снова казачья политика, самостийность. Кавардак и ничего больше! Снова пустая болтовня заменит дело, а от болтовни – увольте. Слуга покорный! Если же – Екатеринодар, так дело Верховного довести до него армию, а там пускай разбираются сами. Он с себя полномочия сложит. Никогда больше не втянут его, боевого генерала, в эту грязь, в эту говорильню, от которой одна беда, в эту политику, где лгут все и обо всём, и вечная мука – разочарование в людях, мука, которой, как и всякой другой болью, не поделишься ни с кем.
Привык Верховный все свои тревоги хранить в себе, не доверяя сторонним людям, а близких по-настоящему, почитай, и не имел. Кубань богата, Кубань ещё борется, армия – за Кубань. А тайный, внутренний голос восстаёт против. Хотя голос этот, по совести говоря, и на Дону не велит оставаться, а зовёт в Сибирь, в родную Сибирь, которую с детских лет знал Лавр Георгиевич. В Сибири он был уверен, в Сибирь рвался с первого дня нахождения на Дону. Там бы всё пошло иначе, там бы поднял мощную силу, которая смела бы этих трусливых бандитов. Ах, если бы можно было добраться до Сибири! Но это за пределами возможностей сегодня, а потому надо гнать бесплотное мечтание и принять-таки решение… Что за мучительный труд – принимать решение! Ведь, в конечном итоге, всё будет зависеть именно от этого решения. От решения Верховного. От его, Корнилова, решения. Он один отвечает за всё дело, за армию, за вверенные ему жизни. Так и придавила к земле эта тягость неподъемлемая. Большинство – за Екатеринодар. И Деникин, с которым успели сблизиться… А он, Верховный – против. Он своим волевым решением хочет повести армию в зимовники, невзирая на мнение совета. И тогда вся ответственность ложится на него одного, и, если что, то вся вина исключительно его. Да и нет же каких-то твёрдых возражений против Кубани. Лишь одно глубоко укоренившееся чувство, что не нужен этот тяжкий поход, что курс на Екатеринодар ошибочен. Но можно ли в таком деле полагаться на собственное чувство, доверять себе больше, чем другим? Ведь другие тоже знают, о чём говорят. Алексеев, как ни относись к нему, опытный стратег. Но как преломить себя? Как принять решение, противное душе? И нужно ли его принимать? Если бы знак какой-нибудь, чтобы убедиться… Вот, уж точно, витязь на распутье: направо пойдёшь – коня потеряешь, прямо пойдёшь – жизнь… Откуда чувство, что «прямо» – Екатеринодар? В русских сказках витязь непременно выбирал прямую дорогу, дорогу, которая сулит ему смерть. Уподобиться этому сказочному витязю, на которого, между прочим, так похоже всё белое войско? Пойти «прямо» и положиться на судьбу?
Всё тише становилась станица. Кажется, сон, наконец, сморил всех белых витязей, давая набраться сил перед выступлением в поход. Но Верховный не мог забыться ни на секунду. Поднявшись с кровати, он нащупал в темноте свою палку и, опираясь на неё, вышел из хаты, не будя спящего адъютанта. Холодный воздух отрезвил разгорячённую и отяжелевшую от нелёгких мыслей голову. Ночь была ясной, бледный месяц, изредка укутываемый прозрачной дымкой, тускло блестел высоко над головой, словно начищенный бок самовара, и безучастно взирал на промёрзшую землю, на людей, коих впереди ждали неизвестность и вероятная гибель. Корнилов глубоко вздохнул, вбирая грудью стылый воздух с подмешанным в него дымком от горящих то там, то здесь костров. Спустившись, с крыльца он медленно побрёл по разбитой, уже тронутой распутицей дороге, вдоль плетней и тёмных дремлющих хат, надеясь, что прогулка освежит его, вернёт ясность затуманенному разуму. Лениво побрёхивали собаки, заслышав шаги, завидев маленькую фигуру, идущую во тьме.