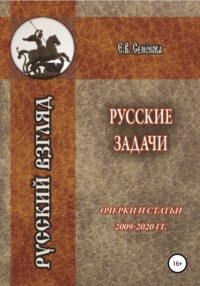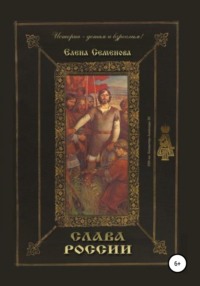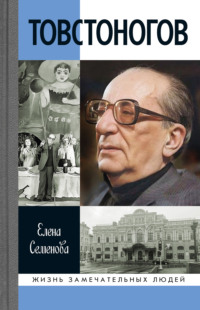Полная версия
Честь – никому! Том 2. Юность Добровольчества
Тягаев сделал знак Доньке, тот стянул рогожу, и партизаны, расправляя затёкшие в неудобном положении члены, окружили своего атамана. Пётр Сергеевич быстро пояснил свой план. Сам он направился к двери, остальные заняли позицию у окон. Группа сработала, как часы. В тот миг, когда полковник вошёл в дом и открыл стрельбу, стёкла со звоном вылетели, и град пуль обрушился на красных. Минута, и все они лежали на полу. Никто из них не успел воспользоваться своим оружием.
– Молодцы, братцы! – одобрил полковник своих людей. В ту же секунду он заметил, что один из «товарищей» успел-таки выхватить свой наган и целится в него. Выстрел Тягаева опередил его, и он успокоился навечно, получив пулю в голову.
С севера слышалась стрельба. Это второй отряд выполнял свою задачу. В деревне загорелись огни, раздались крики.
– «Товарищей» бьют, ваше благородие, – заметил с видимым удовольствием один из партизан.
– Развяжите старика, – скомандовал полковник.
В дом вбежал Донька, бросился к старику:
– Дед! Живой!
– Спаси Христос вас, детушки, – бормотал старик, всхлипывая и утирая слёзы с окровавленного лица. – Уж мы думали, смертонька наша пришла. Донюшка, родимый, привёл-таки подмогу!
– Звери, – качали головой партизаны. – Пётр Сергеевич, они деду ногти на левой руке вырывали. Изверги!
На пороге появился бледный, как смерть, Панкрат.
– Что? – спросил его Тягаев, сразу поняв, что случилась беда. – Трифон? Убит? Ну, говори, чёрт тебя рази!
– Убили старосту, – голос Панкрата задрожал. – Пётр Сергеевич, они его и трёх мужиков…
– Ну! – вскрикнул полковник. – Не мямли, как баба! Что?!
– Привязали их к лопастям мельницы, и мельницу запустили! – выдохнул Панкрат и заплакал.
Тягаев зажмурился, поднёс руку к горлу. Ему вдруг стало невыносимо душно, словно накинули на шею петлю и затянули.
– Веди меня туда, – хрипло бросил он Панкрату и тяжело вышел из дома.
Деревня преобразилось. Всё, что менее получаса назад спало мёртвым сном или затаилось в страхе, высыпало теперь на улицы. Бросились к складу, куда днём свезли продотрядовцы награбленное у крестьян зерно, спешно уносили спасённое добро, чтобы запрятать его на этот раз понадёжнее. Добивали уцелевших красных. Зловеще блестели кровавым от горящих кругом огней то там, то здесь мелькающие топоры, вилы… Пётр Сергеевич не мог различить лиц бегущих по улицам людей, но мог поклясться, что в это мгновение они немногим отличаются по отображённому на них ожесточению от лиц большевиков. Горько-сладкий напиток мести пьянит, доводит до исступления, и люди уже не ведают удержу, громят, бьют и правых, и виноватых, словно чёрт вселяется в них и вертит душами, как игрушками. Тяжело похмелье после этого страшного напитка. Будет томиться душа, протрезвев. Душа, шалый конь на бескрайнем просторе, обротать бы тебя, чтобы не занеслась ты в буреломы, не искалечилась бы неисцелимо – да как? Этакая сила разве что святым дадена… Оставшихся в живых большевиков следовало бы арестовать, а после судить сельским сходом. Приговор был бы им тот же, но хоть избежали бы бессудной расправы. Ни в коей мере не шевелилось в Тягаеве жалости к врагу, но стихийные расправы представлялись ему вредными, так как разлагают вставший на борьбу народ. Народ привыкает к крови, привыкает к самоуправству, к жестокости, к вседозволенности. Всё обращается в стихию, а стихия, не обузданная в нужный момент, не направленная сильной рукой в нужное русло, приносит мало пользы. Крестьянские бунты и партизанщина наносят красным урон, но ведь этого мало! Все эти бунты, лесные отряды – рассеяны. Действия их стихийны, не носят организованного характера, а без организации серьёзного дела не потянуть. Перехлопают по одиночке… Такие раздумья не раз посещали полковника, тяготя его. Его раздражала бессистемность и стихийность. Ему нужна была армия, а не стихия, сознательная борьба, а не временные вспышки народной ярости, являющиеся лишь тогда, когда тяжёлая большевистская пята наступает на горло конкретной волости, деревне, человеку. Пока громят соседа, ограничится всё недовольным ворчанием…
Мимо пробежал, прихрамывая, насмерть перепуганный человек с редкой бородёнкой, смахивающей на козлиную. За ним гналось несколько баб, вооружённых какой попало домашней утварью. Они голосили наперебой, то и дело дотягиваясь огреть свою жертву по тощим бокам:
– Стой, Драный! Говори, говори, окаянный, за сколь мужа моего своим разбойникам продал?!
– Куда моего Парфёна дели?! Говори, пока я тебе глаз твоих бесстыжих не выцарапала!
– Гаврилу моего, своего благодетеля, сгубил! Мало тебя драли!
Драного прижали к стене какого-то сарая. Он кричал что-то, но ничего нельзя было разобрать за голосами лютующих баб.
– Вишь, Пётр Сергеич, доносчика изловили. Таперича бить учнут. И поделом! – пробормотал Панкрат. – Таких прежде всех бить надо. Которые братьёв продают…
Тягаев не ответил. Его раздражал беспорядок и собственное бессилие его пресечь.
Мельница возвышалась на окраине деревни. На ветру быстро вращались её крылья-лопасти, разрезая ночной воздух. Тела уже сняли. Они лежали на земле, а вокруг толпились люди. Несколько баб истошно выли, раскачиваясь из стороны в сторону. Вокруг одной их них прыгал перепуганный мальчонка, дёргал её за подол, спрашивал:
– Мамка, а что с тятькой? Мамка, ты чего?
– Вот, Пётр Сергеич, видите вдовицу? Изверги у неё сперва отца за недоимки заарестовали и извели, а ныне мужа… – сказал Панкрат. – Люди говорят, страшные дела тут творились. Многих поубивали… И Трифона, вот, нашего… Эх… Какой человек сгинул!
Трифон лежал здесь, но чуть поодаль. Лицо его было обезображено. Оно раздулось, посинело, глаза налились кровью и вывалились из орбит, губы и борода были черны от запекшейся крови.
– Люди говорят, что его вначале пытали, добивались нас выдать, а он ни словечка не проронил. Все кости перебили ему, а затем сволокли на мельницу с тремя другими и распяли… – говорил Панкрат. – Экую мученическую смерть принял… Теперь он со Христом…
Тягаев опустился на колени, перекрестился. Глядя на изувеченное тело друга, он вспоминал не раз виденный образ – снятие с креста. Принял староста Трифон крестную муку, до конца вынес все страдания…
– Прощай, брат мой Трифон, – тихо прошептал Пётр Сергеевич. – Спас ты мою жизнь дважды, а я не сумел тебе отплатить тем же. Прости! Помяни душу мою там, где ты сейчас…
Загудел скорбно колокол сельской церкви. Мужики обнажили головы, закрестились. На востоке из мрака забагровел кровоточащий рубец близящейся зари. А чёрная мельница оголтело вращала своими лопастями и казалась зловещей и страшной. Всю жизнь перемелет эта мельница, всю Россию перетрёт своими жерновами… Что теперь судьбы людские? Души людские? Зёрна, между этими жерновами угодившие. И смелет их без жалости страшная мельница русской смуты…
Тягаев почувствовал лёгкое головокружение. И сразу же сильнейшая боль ударила в голову, словно раскалённый прут пробил и пронзил насквозь её. Сделав над собой усилие, Пётр Сергеевич поднялся, спросил чуть слышно:
– Поп есть в деревне?
– Был, – отозвался Панкрат. – Вон лежит… – кивнул в сторону распластанного рядом тела, над которым горько плакало несколько баб.
– Нужно всех убитых похоронить с почестями…
– Само собой, Пётр Сергеич. Да уж тут люди всё как надо сделают.
– Ты проследи всё же…
– Слушаюсь. Какие ещё будут распоряжения?
Тягаев провёл ладонью по лбу:
– Собери наших. Когда уляжется всё, объяви, чтобы собрались все у церкви. Я говорить буду. Нам нужны припасы, оружие и люди. Силой брать ничего не будем, но надеюсь, что добровольцы сыщутся. Оружие, какое нами взято в бою у красных, сосчитать и распределить между партизанами. Если кто из большевиков уцелел, расправы прекратить. Будем судить их. Всё ясно?
– Понял, Пётр Сергеич.
– А сейчас проводи меня к деду этому. Как его?
– Дед Лукьян.
– Да. Мне поговорить с ним нужно.
Дорогу до дома деда Лукьяна Тягаев почти не разобрал. Слишком сильна была боль, от которой темнело в глазах. Пётр Сергеевич в которой раз проклинал свою контузию и молил Бога, чтобы болезнь не разошлась и не приковала его к постели, что могло бы грозить гибелью всему отряду.
Дом Лукьяна Фокича ещё носил на себе отпечаток недавней борьбы, бывшей в нём. Битое стекло, поломанная мебель – всё это разбросано было по полу. Сам же хозяин уже успел несколько поправиться. Лицо его было умыто, густые седые волосы расчёсаны и перехвачены тесьмой. На нём была чистая рубаха, а искалеченную руку кто-то заботливо перевязал. Старик восседал за столом, прихлёбывал чай с блюдца. У ног его сидел, не сводя с деда глаз, Донька. Войдя в горницу, Тягаев обессилено опустился на стоявший в углу стул, приникнув головой к выбеленной печной стенке. Он помнил, что хотел поговорить со стариком, но не мог произнести ни слова. Словно издалека, послышался голос деда Лукьяна:
– Это, стало быть, ватаги вашей главный?
– Да, дед. Полковник Петров, – отозвался Панкрат.
– Полковник? Самделишный?
– Самый что ни на есть!
– Стало быть, барин?
– Должно, барин.
– Никак хворый? – не укрылось от взгляда старика вытянувшееся и посеревшее от боли лицо Петра Сергеевича.
– Занемог маленько.
– Ай-ай-ай, – сочувственно покачал головой дед Лукьян и, поставив блюдце на стол, подошёл к Тягаеву. – Недужится, барин?.. – спросил ласково. – Это бывает, бывает. Голова болит? Хочешь, вылечим?
– Что? – вымолвил полковник.
– Говорю, хворость твою могём выгнать.
– Это как же?
– Заговор знаем.
Пётр Сергеевич с досадой махнул рукой. В заговоры и прочие деревенские суеверия он не верил.
– Не веришь? Ну, как знаешь… – пожал плечами старик, по-видимому, несколько обидевшись.
– Ладно уж… – вздохнул Тягаев. – Заговаривай, колдун.
– Какой тебе колдун! – рассердился Лукьян Фокич. – Колдуна, барин, у нас в запрошлом году мужики на деревне дубьём пришибли. То колдун был! А мы – нет…
– Не сердись, дед, – сказал Пётр Сергеевич примирительно. – Не силён я по этой части…
– Не силён! Колдуны – вражины! Колдуны порчу на людей наводят да на скотину. А мы наоборот – выгоняем её.
– Я понял. Прости. Заговаривай уж…
– Так-то лучше, милой, – голос старика вновь стал тёплым и ласковым. – Погодь малость, мы сейчас.
Что делал Лукьян Фокич, Тягаев не видел, зажмурив глаза от света, усилявшего боль. Через несколько минут старик протянул ему жестяную кружку:
– До донышка пей.
Пётр Сергеевич выпил и закашлялся: в кружке была какая-то несусветная гадость.
– Дерёт, дерёт, верно, – говорил ласково целитель. – Это хорошо. Ты, милой, потерпи, – он коснулся крупной, тёплой ладонью лба полковника, пошептал что-то и отошёл на шаг. – Сейчас всё пройдёт, барин.
Прошло несколько минут, и Тягаев с удивлением почувствовал, что боль исчезла, словно её и не было. Он открыл глаза и недоумённо посмотрел на старика. Тот ласково улыбался и поглаживал окладистую белую бороду:
– Что, барин, болит?
– Не болит! – воскликнул полковник, вставая. – Дед, да ты же кудесник! Спасибо тебе!
– Бога благодари, барин, а нас – за что?
Пётр Сергеевич, наконец, смог рассмотреть чудесного целителя. Был он очень высок, выше самого полковника, крепок и прям. Лицо его было красиво и просветлённо. Казалось, будто сошёл Лукьян Фокич только что со страниц древнерусской былины или сказки. Глаза его смотрели ласково, с лёгкой долей родительской снисходительности: так любящая мать смотрит на расшалившееся чадо. На груди у старика висел большой восьмиконечный старообрядческий крест.
– Ты старовер? – спросил Тягаев.
– Да. Не гоже разве?
– Я просто спросил…
– Садись, барин, чайку попей. Вишь, что подеялось с людьми… Убивают, истязуют друг дружку, точно нехристи… Упустили огонь, а как потушить теперь? Донька, налей чайку нам.
Донька проворно бросился к самовару, налил чаю, поставил на стол.
– Пей, барин, – говорил старик. – Откушай чего. Мёду возьми, вот…
Пётр Сергеевич сделал несколько глотков и спросил:
– Скажи мне, кудесник, от чего же всё это сотворилось?
– Знамо отчего, милой. Бога забыли, а демоны тем и воспользовались. Большаки – они кто ж? Демоны самые настоящие. И бороться с ними крестом надо, – старик указал на свой крест. – Нельзя, барин, Бога забывать. А у нас как? В тревогу – и мы к Богу, а по тревоге – забыли о Боге.
– Как думаешь, дед, одолеют нас большевики? Россию – одолеют?
– Мы, барин, путей Господних не ведаем. Одно скажем, мужику эти большаки уже поперёк горла стали. Ты поспрошай в любой деревне: и всяк тебе одно скажет.
– Что же скажет?
– А то и скажет, что был у нас Царь, было начальство, и жили мы – Бога благодарили, – все имели, а если чего и не хватало, то надежду всякий питал: коли есть голова да руки, то и для себя и для детей заработаешь. Был порядок, был и закон и справедливость. Теперь у нас комиссары-большаки, начальства есть много, ну а остального ничегошеньки нет – ни пищи, ни одежды, ни порядка, ни закона, ни справедливости. Можно сказать, не живёт народ ныне, а только глядит, как бы не умереть. Да и то не знаешь, будешь ли жив от комиссара завтрева. Да и надежды на лучшее при них никакой, прямо охота работать пропадает.
– Ну а при Керенском как было? Что скажешь?
Старик помолчал, затем чуть улыбнулся и ответил:
– А скажем мы тебе, барин, так: бывает лето с плодами Господними, бывает зима с морозами, стужами, буранами. А между ними слякоть, распутица никчёмная. Такая слякоть и Керенский был. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга…
– Мудрец ты, дед, – заметил Тягаев. – Что ж дальше будет?
– А то и будет, барин, что свет до тьмы стоит, но и тьма до свету. Бороть антихриста будем, покуда живы. Не окажемся рабами ленивыми и лукавыми, так и поборем.
– Чтобы побороть, люди нужны, дед, – Пётр Сергеевич хотел было закурить, но передумал, вспомнив, что в домах староверов табак считается зельем сатанинским. – А где мне людей взять? У меня в отряде восемнадцать душ. И дольше месяца мы с ними, как проклятые, по лесам шарахаемся, не то удачу, не то смерть свою ищем. И куда дальше, скажи? Вот, в твоей деревне мужики всю ночь продотрядовцев били, а утром как? По домам разойдутся – ждать, когда отряд больший явится и всех их, как Трифона, на мельницу сведёт? Кабы встали все, как один, соединились бы, так, может, и побороли бы.
Возвратившийся Панкрат доложил, что все поручения полковника он выполнил, после чего присоединился к скромному застолью.
– Нечем нам вас, детки, потчевать, – покачал головой дед Лукьян. – Всё повыгребли нечестивцы.
– Ничего, отец, воротим, – сказал Панкрат, доставая краюху хлеба и проворно нарезая её охотничьим ножом.
– Добро ты сказал, барин, про то, чтобы все как один, – вернулся старик к прерванному разговору. – Дед наш, царствие ему небесное, прожил восемьдесят годочков и помнил ещё Бонапарта. Тогда хорошо было. Тогда все дружно взялись: и мужики, и баре…
– Тогда проще было, – возразил Панкрат. – Тогда иноземцы пришли, хвранцузы – все и поднялись. И таперича свои!
– Какие такие свои? – нахмурился Тягаев. – Троцкий тебе свой? Латыши и китайцы, которые по всему Поволжью страх на людей наводят тебе свои? «Свои»! Нашёл своих…
– А знаешь, барин, ты на нашего брата напраслины не возводи, – сказал вдруг старик. – После того, что эти поганые у нас творили, не разойдутся по домам. Возьмутся, вот наше слово. И мы первыми на святое дело станем! Ни с винтовкой, ни с вилами, а с крестом на них пойдём. Демоны креста убоятся.
– Куда тебе, старый, в бой-то идти! – рассмеялся Панкрат.
– Жить, сынок, значит, Господу Богу служить. И уж если такой час пришёл, то за дело его мы костьми ляжем. Мы под началом Скобелева-генерала турок били. И здесь не оплошаем.
Нравился Петру Сергеевичу этот былинный старец-старовер. Казалось, говорила в нём та прадедовская Русь, обритая и всунутая в заморский кафтан преобразователем Петром. Убеждённо говорил дед Лукьян, и светилось лицо его. Почти сутки пробыл он в руках красных, и болело тело его от побоев, а такова сила и высота духа была, что не замечал он ран своих и готов был хоть теперь идти в бой против красных демонов, вооружившись одним только крестом.
Утром у церкви собралась вся деревня. Убитых накануне положили в гробы и выставили внутри неё для прощания и отпевания. И они, принявшие лютую смерть, теперь должны были живых поднять на брань, чтобы те отплатили за их муки. Мрачны были лица собравшихся, и читалась в них суровая решимость и ожесточение. Тишина царила такая, что всякий шорох был слышен. Даже заплаканные бабы умолкли – ни тихого всхлипа не вырывалось. Живых большевиков в селе не осталось. Все они были убиты ночью. Несколько пыталось бежать из деревни, но их перехватил оставленный в засаде отряд партизан. Судить было некого. Убитых красных закопали в общей могиле за околицей. Кое-кто из стариков качал головами:
– Землю-матушку выродками паскудить… По ветру развеять бы!
Поднявшись на церковное крыльцо, полковник Тягаев оглядел выжидающе смотрящую на него толпу. Он не любил таких моментов. Не любил говорить речи. Пётр Сергеевич знал доподлинно, что нет у него дара говорить красиво. А к тому – перед мужиками. Что он мог сказать им? Прежде выручал всегда Трифон. Вот, кто был мастер говорить перед крестьянами! Златоуст – не меньше! Так умел говорить покойный староста, что до всякого мужицкого сердца доходили его простые слова. Но не знал Тягаев тех простых слов, а потому не мог унять волнения. Начал Пётр Сергеевич с поминовения погибших, затем заговорил об антинародной сущности большевиков, но сам понял, что говорит – не так. Мудрёно, не тем языком, не про то. Сбился полковник, замялся. И тогда – выручил его Лукьян Фокич. Вышел старик на середину площади, махнул рукой перевязанной:
– Полно, барин! Чего говорить? Али мы дети малые, и сами не разумеем, что к чему, кто вражина нам, а кто брат? Не надо слов! Мы и без них всем миром на поганых встанем и будем бороть их, доколе силёнок достанет! А ты только веди нас, как ты есть образованный командир, и подвиги твои и твоих партизан мы все здесь ведаем! Так ли, мужики?
– Верно!
– Правильно!
– Пусть только сунутся к нам вдругорядь!
– Мы на своём веку видали многое, – продолжал старик. – На войне под началом Скобелева-генерала турка бивали. А ныне мы нехристям-большакам войну объявляем. Дело то, братцы, Божие! Святое дело! Грудью постоим за землю нашу, кормилицу! Освободим Волгу от лютого ворога! Не падём духом, и Господь не покинет нас! Против антихристова войска сражаться станем, и Пречистая Богородица укроет нас Покровом своим! Помолимся, братцы, чтобы милосердный Господь укрепил нас и даровал победу!
Так вдохновенно взывал дед Лукьян к сердцам своих односельчан, что многие были тронуты до слёз. Когда же он опустился на колени и стал горячо молиться, осеняясь двуперстным крестом, то и все пали на колени следом и присоединились к его молитве. Потрясённый этим торжественным и прекрасным зрелищем, Тягаев, так же ставший на колени, подумал, что войско его теперь уж точно возрастёт, и решил не уходить со своими партизанами в леса, а разбить лагерь в этой деревне, местоположение которой было весьма выгодно в стратегическом плане. Кто знает, может, отсюда, из этой простой русской деревушки начнётся освобождение Волги, а следом и всей России?..
Глава 3. Распутье
26 мая 1918 года. Новониколаевск
Всего сорок минут потребовалось, чтобы свергнуть большевиков в Новониколаевске! Чехословаки и барнаульцы взяли город! С чехословаками договорённость была достигнута на недавнем совещании в Челябинске, на котором присутствовали от них Гайда и Кадлец, от самарского Комуча капитан Каппель и полковник Галкин, а от сибирских боевых дружин Гришин-Алмазов, выработали и утвердили план будущего выступления, и в конце мая началось оно. Словно принцип домино пришёл в действие – город за городом освобождалась Сибирь от красных. Но освободить мало, нужно – удержать. А для этого необходимы силы, а силы, если не считать чехов, ничтожны – во всех сибирских военных организациях едва наберётся семь тысяч человек! И с этой малости начиная, предстоит создавать армию, которая сможет освободить Россию и продолжить войну с немцами, которым их агенты-большевики щедро подарили огромные пространства русской земли. Велика была задача, но подполковник Гришин трудностей не боялся, они лишь пробуждали в нём азарт. В своих силах и способностях уверен был Алексей Николаевич. И последние события лишь укрепили эту уверенность.
Сибирь знал подполковник Гришин прекрасно. Родился и вырос он в Тамбове. Затем учился в Воронежском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище, принял боевое крещение в Маньчжурии, после чего прибыл в Сибирь, где шесть лет возглавлял команду разведчиков и учебную команду. Годы эти молодой офицер потратил на доскональное изучение необъятных сибирских просторов, много путешествовал по Амуру, Уссурийскому краю и другими областям. Можно ли было думать, что здесь совсем скоро придётся вести бои с германским авангардом, состоящим из предателей и наёмников! На Великой войне Алексей Николаевич в составе 5-го Сибирского корпуса участвовал во многих наступательных и оборонительных операциях, был награждён многими орденами и медалями. Последней «наградой» боевому офицеру стал арест и увольнение из армии за открытое выступление против октябрьского переворота. Что ж, не приходится пенять на судьбу: можно считать, легко отделался, со многими поступили проще – просто подняли на штыки…
Ища возможности бороться с ненавистной властью, подполковник Гришин устремился на Дон. К Корнилову. Лавр Георгиевич в ту пору сам едва успел прибыть в Новочеркасск и вынашивал идею перенесения основного фронта борьбы с большевиками в Сибирь, в которую верил непреложно. Увлечённый этим замыслом, генерал принял приехавшего офицера-сибиряка. Лавр Георгиевич хотел знать реальное положение дел в Сибири, был убеждён в необходимости налаживания там работы. Алексей Николаевич слёту подхватил идею, немедленно изложил генералу свои соображения на этот счёт. А соображения были! Так уж устроен был Гришин: стоило поставить перед ним вопрос, конкретную задачу, как с полуоборота являлись в уме варианты решения её. Быстро и легко находилось нужное, и закипала работа в умелых руках. И Корнилову мгновенно представил он целый перечень мер, которые можно предпринять. Генерал предложения одобрил и командировал Алексея Николаевича в Сибирь для их воплощения.
Пересечь большевистскую Россию было делом нелёгким. Приходилось соблюдать строжайшую конспирацию. Раздобыв документы на имя артиста Алмазова, именно в этой роли и прибыл Гришин в Сибирь. Некоторое время он присматривался и прислушивался к настроению общества. Настроение это было противоречивым. В Сибири большевики ещё не успели явственно показать своё истинное лицо, осторожничали, а потому и народ не готов был восставать на них. Офицеры были настроены жёстче. В разных городах существовали небольшие организации, никак не связанные друг с другом. Сразу понял Алексей Николаевич: это дело так оставлять нельзя, связь нужно налаживать. Но каким же образом? Не привлекая внимания большевиков? Собственные ноги обивать – никак иначе. Но офицеров для работы недостаточно. Нужны промышленники, кооператоры (они лучше других поняли опасность для себя большевистской власти), нужны политики… Политики в Сибири были. Члены партии социалистов-революционеров. В отличие от всех прочих они были активны и готовы к действию. Эсеровские идеи чужды были Гришину. С детства впитал Алексей Николаевич патриархальные устои, согласно которым жили родители, люди набожные, скромные, небогатые. В семье Гришиных всегда чтили Царя, Божия помазанника, матушка Алексея Николаевича не пропускала ни одной службы, старательно приучая к тому и сына. Многое перенял Гришин от отца с матерью, перенял набожность их, которую не порушили ни годы учёбы, ни война. Даже в самые трудные времена он не забывал говеть, не давал себе ни малейших поблажек в следовании православным канонам. Под стать была и жена. Мария Александровна, женщина умная, решительная, обладала волевым и твёрдым характером. Пламенная патриотка, она живо интересовалась политикой, превосходя в этом занятого службой мужа, и, несмотря ни на что, придерживалась твёрдых монархических убеждений. Разделял их, хотя и не столь горячо и эмоционально, и Алексей Николаевич, но, оценив сложившуюся в Сибири ситуацию, понял, что провозгласить теперь монархическую идею – значит, прикончить всё движение на корню. Пришлось монархисту Гришину играть роль эсера Алмазова. А что делать? Теории, ориентации, партии – всё это, быть может, и важно, но Россия неизмеримо важнее. А значит нужно искать среднюю линию, компромисс, оставить до лучших времён всевозможные частности. Если никого кроме эсеров нет, значит, надо работать с эсерами.