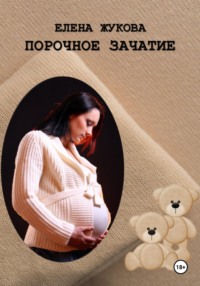полная версия
полная версияНа личном фронте без перемен…
– Ты спишь?
– Нет. Терплю до утра.
– О чем ты думаешь? – спросил Виктор так, как спрашивают подруг влюбленные мальчики. Но разбуженная в Соне стерва уже не могла успокоиться: она желала жалить.
– О концепции набоковского романа и оправданности включения в него четвертой главы с жизнеописанием Чернышевского.
– Ты что, чокнутая?
– Я трахнутая. Тобою.
Сонин голос звучал отрывисто и зло. Она безжалостно хлестала Виктора словами, стремясь причинить боль. И тот сдался.
– Все. Можешь включить свет и делать, что хочешь.
– Я могу читать? – не поверила Соня.
– Можешь.
– Могу встать и одеться?
– Да, если хочешь.
– Могу собраться и уехать? – Соня замерла в ожидании ответа, боясь спугнуть забрезжившую надежду.
– Можешь. Но я прошу тебя остаться. Останься, пожалуйста! Хотя бы до утра, – теперь уже Виктор вложил все свое страстное хотение в непривычное языку слово «пожалуйста».
Соня посмотрела на часы. Время неохотно подползало к четырем. Наверное, разумнее было бы задержаться в квартире до утра, а не мчаться в ночном такси на другой конец города, не будить маму. Но остаться – означало уступить насильнику. А этого Соня никак не могла себе позволить. Она поднялась с постели и, не стесняясь глазевшего на ее наготу Виктора, стала одеваться. Он тоже встал и накинул халат.
– Отдай мне мою сумку и телефон.
Виктор достал из ящика стола дамскую сумочку и послушно отдал Соне.
– Ты дашь мне свой номер телефона? – неуверенно спросил он.
– Ни за что!
– Может, ты сама как-нибудь позвонишь мне?
– Глупец, не строй иллюзий!
Соня вышла в прихожую. Виктор, измученный, потухший, молча застыл в дверях.
– Плащ? – командовала Соня.
Виктор снял с вешалки серый плащ и протянул его Соне.
– Дверь?
Он нехотя отпер дверь, и Соня рванулась к порогу, за которым ее ожидала свобода.
– Постой! – с последней надеждой воскликнул Виктор.
– Ты что передумал? Берешь свое слово назад? – Соня намеренно применила эту простенькую манипуляцию. Она уже знала, что кодекс чести Виктора, как и ее собственный, не позволяет отказываться от данного обещания.
– Нет, не беру. Ты можешь ехать, если хочешь, – подтвердил Сонину свободу Виктор. – Только давай я провожу тебя!
– Еще чего! Нет уж, уволь меня от такой чести. Я сама.
Соня выскочила на лестницу и понеслась вниз. Скорее, скорее! Пробежав один пролет, она оглянулась. Немолодой человек, застывший в дверном проеме, смотрел ей вслед безжизненным взглядом.
Через несколько секунд Соня оказалась на улице. Ей хотелось надышаться вкусным воздухом свободы. Было свежо. Еще не рассвело, но сумрак ночи уже выцвел и стал прозрачным. В этот предрассветный час город выглядел необитаемым: кругом не было ни души – ни зевающих полусонных прохожих, ни дворников, ритмично шаркающих по асфальту метлами. Даже вечно голодных дворовых кошек – и тех не было.
Соня подняла голову. Над ней нависала уродливая двенадцатиэтажная громадина со слепыми серыми окнами. И только на втором этаже тихо сиял золотистый прямоугольник света, обманчиво манивший теплом и уютом. Там, за окном мучился одинокий несчастный человек. Враг или брат по несчастью? Калека, выживший в маленькой войне, в которой не оказалось победителей.
Но этот ночной эпизод не значил ничего в большой, затянувшейся на годы, войне против одиночества. На личном фронте без перемен…
Возвращение
Как странно возвращаться в город своего детства – будто ты давно вырос из него, как из старой одежки, а он так и остался маленьким – с одноэтажными купеческими домишками вдоль улиц, сохранивших имена Ленина, Маркса, даже палача Урицкого – то ли из высокомерного равнодушия местных властей к политической конъюнктуре, то ли из-за отсутствия средств на переименования. Но зачем-то он позвал меня, мой город. И я сказал жене, что хочу побродить по местам, где прошло мое босоногое и поклониться могилам предков.
Я сошел с поезда, который издевательски вильнул хвостом и сбежал, оставив меня в одиночестве расхлебывать последствия странного каприза. Я уехал отсюда тридцать с лишком лет назад и ни разу не пожалел о сделанном выборе. Какая нужда была возвращаться? Да, я был счастлив здесь незатейливым счастьем юного невежды: друзья, мечты и надежды, первая любовь… Но все связи давно оборваны, теперь я здесь – чужак.
Я брел от вокзала к центру по знакомым, но забытым улицам, и наслаждался эффектом предвоспоминания: дом с чугунным балконом, мост или старая пожарная каланча появлялись в моей памяти на несколько секунд раньше, чем перед глазами. И я наслаждался узнаванием.
В малых городках время всегда отстает от столичного лет на двадцать. Мой город изменился, но сейчас он переживал московские нулевые. Я с любопытством отмечал давно устаревшие инновации: рекламные щиты вдоль улиц и перетяжки – поперек, пешеходная зона, утыканная фонарями «губернского» стиля, детские площадки со всегдашними горками – как в столице, но поплоше, сообразно возможностям местного бюджета.
Ильич с протянутой рукой так и остался торчать посреди площади имени самого себя. Подковообразное трехэтажное здание за его спиной обновили пластиковыми окнами, чтобы слугам народа не надуло чего дурного сквозняками недовольств. А на противоположной стороне площади новенькими золочеными главками сверкал отреставрированный собор, который, слава Богу, поленились снести в атеистические времена, вот, глядишь, и пригодился – подпереть власть божественным авторитетом.
Развлекая себя наблюдениями и размышлениями, я дошел до городского рынка. Если отсюда повернуть налево, на улицу Свердлова, и пройти два квартала, то на перекрестке с Первомайской будет дом, в котором когда-то жила наша семья. Два угловых окна на втором этаже. Интересно, кто там сейчас обитает? И разрешат ли они зайти?
Я не спешил – времени до вечернего поезда было достаточно: хватит и дом навестить, и старую школу, и отцову могилу на кладбище (его хоронила мачеха, я не смог вырваться). Потом я планировал перекусить (должно же быть в городе хоть одно приличное заведение!) и прогуляться по местам, где могли бы очнуться спящие летаргическим сном воспоминания.
Рынок – это сердце любого небольшого города. Магазин, выставка, клуб, ресторан, информагентство, брачная контора, показ мод – все в одном месте. В субботний день рыночная площадь представляла собой огромное торжище: торговали с прилавков, с рук, с машин, с газетки, расстеленной под ногами. И всем, чем угодно – от парного мяса до уродливых гипсовых Афродит полутораметровой высоты.
Я уже и забыл, какое это удовольствие – слоняться по рынку без дела и без цели! Я перепробовал все, что совали мне в рот щедрые продавцы: домашний творог и хрусткие малосольные огурцы, густой тягучий мед, сало с темной мясной прожилкой, узбекские лепешки с зернышками кунжута (и сюда добрались наши южные братья по разуму!). Я был уже почти сыт, когда нос учуял в мешанине запахов аромат свежевыпеченного теста, и мне вдруг ужасно захотелось пирогов. В детстве мы часто бегали на рынок за пирожками – по десять копеек штука. Я подошел к пирожковой палатке.
– Один с мясом и один с капустой. Картой можно заплатить?
– Мужчина-а-а, – укоризненно протянула продавщица, чья сдобная полнотелость была лучшей рекламой товара. – Мужчина-а-а, у вас что, нормальных денег нет?
Я полез в кошелек искать «нормальные деньги». И вдруг услышал, как сзади кто-то окликнул меня по фамилии:
– Ахрамеев? Ты?
Я обернулся. Передо мной стоял пожилой мужик, весь какой-то помятый, в копеечных джинсах и клетчатой рубашке навыпуск. Его глаза прятались в густой тени козырька бейсболки, а на освещенной части лица глубокие носогубные складки свисали вниз усами рыбы-сомика и заключали в скобки рот с желтыми прокуренными зубами.
Я еще с утра настроился на встречи с людьми из прошлого, но память молчала. А вот мужик меня хорошо знал и окликнул так, будто долго ждал, специально искал и вот наконец-то встретил. Я нацепил на лицо улыбчивую растерянно-извиняющуюся маску: дескать, прости, друг, не узнаю. Тогда мужик сдернул с головы бейсболку, из-под которой показались пегие остатки растительности. А из тени козырька на свет вынырнули глаза – серебристо-серые, прозрачные и пронзительные.
– Крючков? Валерка!
Мой одноклассник. Да, потрепала его жизнь! Когда-то мы с Валеркой не то, чтобы дружили – скорее, мерялись, кто круче. А теперь и меряться незачем: слепому видно, что капитан Крюк в дерьме, а у меня все просто зашибись. Я – успешный, состоявшийся человек, начальник отдела в приличном банке: не из глобальных монстров, но в рейтинговую сотню входит. Стоило приехать хотя бы ради этой встречи! Ведь стартовые позиции у нас с Крючковым были одинаковыми, только я выбрал правильную стратегию, а он облажался.
Я протянул Валерке руку, но тот подал свою не сразу, а после некоторого колебания – словно оценивал приемлемость этого жеста. Завидует. Мне бы тоже противно было увидеть наглядное подтверждение собственного лузерства.
Жесткая, как подошва, ладонь Крюка поведала его биографию – работяга. Чем люди живут в этой дыре? Раньше в городе было два завода – электродный и кирпичный, но в конце девяностых, кажется, оба разорились. Почему Крюк не уехал? Ведь у него были все шансы преуспеть.
Валерка внимательно рассмотрел меня от мысков итальянских ботинок до воротника рубашки, заказанной по английскому каталогу, и неодобрительно усмехнулся:
– Знатно выглядишь, Хряма. Что это тебя на родину потянуло?
– Правильно сказал – потянуло. Вот, приехал посмотреть. Могилки навестить. А ты, Крюк, так и прожил здесь всю жизнь?
– Да, так и прожил, – равнодушно согласился он.
Я хотел, было, задать ему дежурные вопросы про работу и семью, чтобы в ответ скромно и достойно озвучить шорт-лист своих неоспоримых достижений, но Валерка быстро завладел моим локтем:
– Пойдем ко мне, разговор есть.
В его суровой решимости было нечто настораживающее: тридцать лет не знались, ни единого звука друг о друге не слышали, а Крюк вел себя так, будто бы нас связывали общие дела. Или он денег хотел выпросить? Напрасно – не дам. С какой стати?
Я попытался, было, отговориться тем, что времени мало, что я в городе проездом, но Валерка не поверил и не выпустил мой локоть.
– Ты что, боишься меня, Хряма? – насмешливо бросил он. Прозрачные глаза блеснули зло и дерзко.
Я осознавал, что это – манипуляция, что «на слабо» ведутся только дураки. Но Крюк бросил мне вызов: он делал так всегда, с четвертого класса, когда его семья переехала в новый дом, а Валерка перешел в нашу школу. Да и я тоже не отставал – мы без конца испытывали характеры друг друга. И сейчас я не мог спасовать и выставить себя слабаком. Ладно, поговорим, выясним отношения.
Валерка жил там же, где и раньше. Только теперь уже не с родителями, а один: он так и не женился. Пятиэтажка, которую когда-то называли «новой», давно обветшала. Мы вошли в темный, вонявший кошачьей мочой подъезд и по раздолбанным ступеням поднялись на второй этаж. Крюк отпер дверь. Казалось, время двинулось вспять – я снова стал мальчишкой: тени, запахи, звуки разбудили воспоминания. В последний раз я был у Крючкова как раз перед отъездом в Москву. Он праздновал свой день рождения, собрал компанию – человек десять-двенадцать. А у меня в кармане уже лежал билет на ночной поезд. Я пришел – хотел последний раз посмотреть на тех, кого оставлял в прошлом.
По советской привычке, Крюк пригласил меня не в комнату, а на кухню, тесноватую и неопрятную, с грязной посудой в мойке и помятой алюминиевой кастрюлькой на плите. По циферблату настенных часов громкими секундными прыжками скакала стрелка. Валерка кивнул мне на утлый венский стул рядом со столом, покрытым линялой клеенкой. Я сел, ожидая продолжения разговора. Подумалось, что Крюк сейчас достанет из холодильника бутылку водки и придется пить с ним какую-нибудь дешевую гадость. Но он не предложил ни пить, ни есть. Опустился на табуретку около окна и уставился на меня недобрым взглядом, от которого делалось неловко.
– Ты помнишь Наташу Урусову? Ты вспоминал о ней, Хряма?
Наташа – нежная тень на рассвете жизни, первая любовь. Она была самой красивой девчонкой в классе: русая коса ниже плеч, доверчивые глаза в бахроме ресниц, губы мягкие, россыпь родинок вдоль длинной шеи. Помнится, я был сильно увлечен ею. Провожал до дома. Стихи писал (чудовищные!). Много суетился, показушничал, чтобы выделиться на фоне других мальчишек. Крюк тоже неровно дышал к Наташке (еще один повод для соперничества!) и тоже выделывался, как мог. Но она предпочла меня.
С тех пор, как я уехал отсюда, я старался не думать о Наташе. Запретил себе вспоминать – и все. Да и некогда было: столичная жизнь накатывала волнами, приносила то проблемы, то соблазны. Неужели Крюк до сих пор страдал по ней? Ненормальный!
– Помню, – ответил я. – А что?
Мой ответ Валерке не понравился. Лежавшие на коленях мозолистые руки сжались в кулаки, тело наклонилось вперед. А что он хотел услышать? Что она – любовь всей моей жизни? Нет, у меня были женщины и ярче, и красивей.
– А ведь она любила тебя, Ахрамеев, – зло, сквозь зубы выцедил Валерка.
Любила… В десятом классе Наташа позволила себя поцеловать. Мы сидели на лавочке в старом парке, я неловко ткнулся носом в прохладную щеку и почувствовал ртом слабое шевеление плотно сжатых губ. В ту ночь я не мог заснуть – мир вокруг меня пульсировал любовью. Как же это было давно, словно и не было вовсе. И как изменилось время! Вон, у моей пятнадцатилетней дочери жена нашла в сумочке презервативы.
А Крюк, он что, хотел отношения тридцатилетней давности выяснять? Нет, это же просто смешно! Кажется, и самой Наташи Урусовой давно не было на свете. Кто-то, помнится, говорил…
– Любила – не любила, какая теперь разница? Что с ней стало, Крюк?
Валерка недоверчиво прищурился, словно хотел убедиться, не притворялся ли я.
– Ты что, действительно не знаешь?
– Я слышал, что она умерла. Это правда?
Крючков разом помрачнел:
– Она не умерла, ее убили. Вот здесь, на этом самом месте, где сейчас сидишь ты.
К концу фразы голос перешел в зловещий шепот. Я присмотрелся: прозрачные глаза Крюка почернели от раскрывшихся до предела зрачков. «Он – псих, – испугался я. – Какого мега-дурака я свалял, когда согласился прийти сюда».
– Ты шутишь? – спросил я, с трудом удерживая голос от предательской дрожи. Сумасшедших нельзя раздражать. Надо придумать предлог, чтобы уйти. Я спешу. Я куда-то спешу… Куда?
– Ты так внезапно исчез тогда, – зло скривил рот Крюк. – В тот вечер, когда умерла Наташа.
Я смотрел в безумное Валеркино лицо и лихорадочно прикидывал, что будет дальше? К чему он клонил? И при чем тут я?
– В к-какой вечер?
– Но ты же был у меня тогда, на дне рождения. Помнишь?
– Да-да, помню, – машинально ответил я.
– А хочешь, я покажу тебе Наташины рисунки, – щедро предложил Крюк – будто допускал меня к бесценному сокровищу. – Этих еще никто не видел, кроме меня. Когда Наташу увезли в больницу, я вытащил альбом из ее сумки. По-хорошему, надо было матери отдать, но я не смог. Я любил ее. Это единственное, что у меня от нее осталось.
Да, Наташа любила рисовать. Я так и помнил ее – с вечным карандашом и блокнотом. На белом альбомном листе из клубка перепутанных линий мог размотаться знакомый профиль (мой чаще других!) или силуэт жалкой дворняжки, что ошивалась возле продуктового, или Мефистофель, или цветок, или что угодно еще. Она была очень талантлива.
Похоже, Крюк, бедолага, подвинулся именно на Наташке. Может, он потому и не женился? И меня к себе притащил из-за того, что я был связан с Наташкой. А, может, это он ее и убил? В приступе безумия? Стало еще страшнее.
Валерка поднялся с табурета и двинулся, было, в комнату за рисунками, но я притормозил его:
– Черт с ними, с рисунками. Я лучше пойду. Мне надо…
– Не надо, – перебил Крюк. Он подошел и тяжелой ладонью придавил меня к стулу – «сиди!».
Крючков разозлился из-за рисунков: я ощущал его враждебность так же ясно, как запах табака и прогорклого пота. Я начал задыхаться. А что, если этот псих нападет? Он был крупнее и занимался физическим трудом, а я – офисная крыса и уже тридцать лет не дрался. Знакомый инструктор по боевым искусствам рассказывал, что бить надо в нос – внезапно, сильно, снизу вверх. Чтобы сразу сломать. Боль, фонтан крови – это моментально парализует противника. Сам я, естественно, не пробовал, но, если Крюк набросится, ударю.
Валерка наклонился надо мной так, что его безумные, горящие ненавистью глаза оказались на уровне моих и, обдавая меня несвежим дыханием, он яростно выплюнул:
– Я видел, Ахрамеев, как ты смешивал для нее коктейль!
И словно точку поставил в обвинении – больно ткнул меня в грудь жестким указательным пальцем с желтым слоистым ногтем.
– Какой коктейль? – вскрикнул я. – Причем здесь коктейль?
– Не включай дурака, Хряма – презрительно осклабился Валерка. – Наташа умерла от анафилактического шока. Ананас!
Похоже, у Крюка случилось обострение – он нес полный бред. При чем тут ананас? И какой-то анафилактический шок…
Крючков гипнотизировал меня черным немигающим взглядом. Чего он от меня хотел? Признания вины? Раскаяния? Но я действительно ничего не понимал. И думал только об одном – как бы побыстрее и с минимальным ущербом выпутаться из этой чудовищной истории. Вот тебе и съездил на малую родину! Чтобы стать жертвой маньяка.
И вдруг Валерка откинулся назад и как-то разом сдулся. Будто весь его гнев вышел в одной фразе. Он вернулся на свою табуретку, закурил, и устало произнес:
– У Наташи была аллергия на ананасы. Полная непереносимость. А ты сделал ей коктейль с ананасовым соком. А сам быстренько слинял. И оставил ее умирать. Это ты убил ее, Хряма!
– Я?! – чудовищность обвинения подействовала страшнее, чем ярость безумца. Я вскинулся. Как он смел обвинять меня? Этот неудачливый любовник. Этот никчемный лузер. И в чем? В убийстве. Нет, у него точно крыша съехала. Я не удивился бы, если б узнал, что Крюк сбежал из психушки.
Но испуганная память словно включила запись старого фильма из девяностых. Я иду из кухни в комнату, где на столе стоят бутылки, пакеты с соками. И лед тает в прозрачной посудине. Задернутые шторы создают атмосферу интима. Играет музыка, вокруг топчутся возбужденные пары. Пахнет потом, перегаром и дешевыми духами. Я наливаю в высокий стакан вермут и сок. Апельсиновый. Но пакет заканчивается. И я доливаю ананасового. И бросаю два кубика льда.
– Я не знал! – выкрикнул я в свое оправдание.
– Все знали – жестоко отрезал Валерка. – Помнишь, как ей вызывали скорую на новогодней вечеринке? Мы все это видели!
Да, правда, я знал. Но не мог же я… Или мог? В тот вечер мы, кажется, поссорились. Да, точно, мы поцапались. Я рвался в Москву, а Наташка, которую я звал с собой, все медлила, придумывала нелепые отговорки. Мне надо было успеть подать документы в финансовый институт – времени было в обрез. Я больше не мог ждать и принял решение ехать одному.
Но было что-то еще… Что-то очень чувствительное, очень обидное. Чего я не мог ей простить.
А у Крюка словно плотину прорвало: он вдруг начал говорить, с надрывом, захлебываясь словами и эмоциями, и останавливаясь только для того, чтобы сделать судорожную затяжку:
– Она сидела здесь, вот на этом самом стуле. Такая потерянная, одинокая. Ты бросил ее, Хряма! Говнюк самовлюбленный! Я хотел ее утешить. Обнял, сказал, что все будет хорошо. Она даже улыбнулась. Жалкой такой бесцветной улыбкой… Но я не мог заменить ей тебя. Понимаешь? Ей нужен был ты! Ты, а не я… А потом вдруг она начала задыхаться. И синеть прямо на глазах. И горло стало пухнуть – раздулось, как подушка безопасности. Я помчался звонить в скорую. А они приехали только через сорок минут… Когда уже было поздно. Наташа умерла. А ты, сволочь, живешь! И наслаждаешься жизнью.
Крюк выговорился и замолчал. Он раздавил в пепельнице докуренную до мундштука сигарету, устало сгорбился и уронил руки на колени – отчаявшийся старик, который так и не смог выправиться после первой трагедии на самом старте жизни.
На самом старте. На старте. Стартовый капитал. И внезапно вспомнилась та самая ссора с Наташей – от первого до последнего слова.
– Ты не должен брать у бабы Мотри деньги! Это ее «смертные», она не для тебя их всю жизнь копила. Мотря плакала, жалела, что не смогла отказать.
– Старуха жива-здорова. Она еще лет сто протянет до того, как «смертные» понадобятся. А в Москве без денег делать нечего. В конце концов, я же ей отдам. Заработаю и отдам.
– Когда? Мотре уже восемьдесят два. Лешка, ты должен вернуть ей деньги. Прямо сейчас.
Я терпеть не мог, когда Наташка начинала учить меня жизни. У нее на все случаи были готовые рецепты: это можно, а так нельзя. Я вскинулся:
– Знаешь, Мотря сама мне деньги дала. Это сделка: согласился – будь любезен соблюдать условия. И потом это касается только меня и Мотри. А ты не лезь, куда не просят!
– А меня это, значит, не касается? Ты совершаешь подлость, а я должна молчать? Лешка, опомнись!
Она считала, что взять деньги взаймы – это подлость! Я жутко разозлился – до ненависти, до отвращения. Наташка мешала мне двигаться вперед. Она, со своими тупыми предрассудками, держала меня здесь, в этой жопе мира, когда я уже жил будущим.
– Ты завелась на пустом месте. Давай-ка я тебе чего-нибудь прохладительного принесу, чтобы ты остыла, – сказал я и выскочил с кухни, пока Наташка не успела выдать новую порцию нравоучений.
Да, я вспомнил: я действительно плеснул ей в стакан немного ананасового сока. Чтобы избежать продолжения неприятного разговора. Подумал: Наташка покашляет немного, а я в это время успею уйти – без скандалов, по-английски. А там – ночной поезд и «в Москву, в Москву!». Я же не хотел! Я не знал!
Правда обрушилась как бетонная плита: искорежила, выдавила всю радость жизни. Кто я теперь?
– Валерка, – чуть слышно прохрипел я. Голос не слушался.
Крюк посмотрел на меня с мрачным удовлетворением: он выполнил то, что хотел сделать много долгих лет.
– Что мне теперь делать? – растерянно спросил я.
– Ничего, – равнодушно ответил Крюк. – Против тебя никаких улик, Ахрамеев. Да их никогда и не было. Поезжай в свою Москву и живи дальше. Вали отсюда, Хряма!
Я вышел из вонявшего кошачьей мочой подъезда на свежий воздух. Теперь я точно знал, зачем позвал меня мой родной город.
Примечания
1
после распределения на предприятие молодые специалисты обязаны были отработать на нем три года