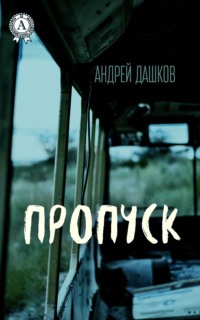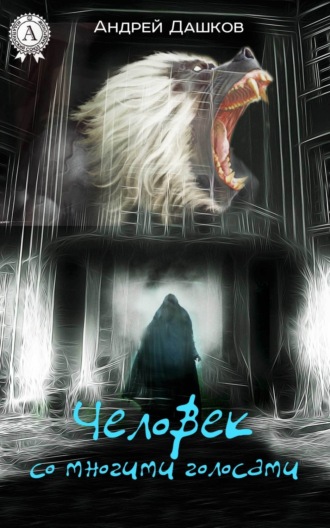
Полная версия
Человек со многими голосами
Крестоносец пришел сюда в поисках диких вещей. Таков был его крест. Кроме, конечно, тех двух, что выжжены на его щеках. Клейма превосходства. Клейма отверженности. Впрочем, последние лет двадцать он почти не думал об этом. Клочки Нечистой Бумаги со словами «сожаление» и «тоска» давно стали пеплом на ветру. Его воображение потускнело, как старая монета, но все еще не было убито. Обращенное в пепел, уносимое ветром, оно возвращалось снова и снова, как возвращается и сам ветер – всегда другой и всегда тот же.
Крестоносец бесшумно двигался, впитывая миазмы города. Он различал миллионы оттенков тьмы, сотни разновидностей тишины, долгое эхо молчания. Улицы были щупальцами пустоты, протянувшимися сквозь Камень. В каждом закоулке притаился шепот. Город рассказывал все, открывая подноготную тому, кто мог и хотел услышать. Рассказывал о целых поколениях, так и не дождавшихся награды за свое долготерпение. О надеждах молодых, которые разбивались где-то между испарившейся любовью и скучной зрелостью. О сожалениях стариков, подслеповато вглядывавшихся в прожитую неизменность. О том, что во все времена обнаженное существование остается болезненной бессмыслицей. О том, как приходят в этот мир голыми и слепыми и орут при пересадке, а уходят запеленутыми в саваны, с зашитыми ртами и монетами на глазах…
Город иногда обманывал. Заводил в тупик отчаяния. Крестоносец умел отличать правду от лжи.
Камень был огромен. Слишком огромен, чтобы управиться с мелкоячеистой сетью за одну ночь. Тут не хватило бы и недели, но крестоносец никуда не спешил. Впереди у него была бездна вечности и даже кое-что потом, вроде призовой игры.
Барон сообщил ему, что, согласно последней переписи, в городе проживает около восьми миллионов человек. Крестоносца это не огорчило и не обрадовало. Небольших изолированных поселений не осталось вовсе. Наступили времена невиданной концентрации рабочей силы. Одни закрытые города лежали в руинах, другие процветали. Почему это так, не знали даже советники новых феодалов по экономике, не говоря уже о крестоносцах.
ГЛАВА ПЯТАЯ
в которой Ролло охмуряет вдову, юное создание обзаводится подходящим именем, а старый патефон получает новую жизнь
Ролло поселился у вдовы галантерейщика. Поначалу они сошлись на десяти монетах в неделю, и новый постоялец занял комнату на втором этаже, в которой до него проживал убитый на дуэли вояка. Ролло это нисколько не смущало и даже немного забавляло. От вояки осталось кое-какое барахлишко – именной «маузер», компакт-диски с записями грегорианских хоралов, набор порнографических открыток, бронежилет и джинсовые шорты с вышитым на заднем кармане мальтийским крестом.
Вдову звали Константа. Вопреки своему имени, постоянством она не отличалась, и утешители проходили через ее спальню почти непрерывной чередой, пока Ролло не оказался в слишком большой даже для двоих кровати. Поскольку он как никто другой умел не только утешать, но и ублажать вдов – а это, согласитесь, совсем другой уровень вдовьих ощущений, – все остальные любовники вскоре получили отставку. Еще через несколько дней (вернее, ночей) вдова сочла, что десять монет – это такой пустяк в сравнении с оргазмами, которые ей прежде и не снились.
Такая уж была у Ролло судьба – он выдвигался на любом поприще. Все, что он ни делал, он делал хорошо. Неординарность была запечатлена в каждой черточке его подвижного смуглого лица. В нем сочетались ум, хитрость и обаяние, а где-то позади всего этого притаилась сила, которая цементировала портрет и не давала ни чувственности, ни рассудку развести хозяина по путям безудержных наслаждений или иссушающего аскетизма.
Правда, был еще мальчик. Поначалу вдова выразила недоумение по поводу приведенного Ролло мальчика, однако затем смирилась с его присутствием. Тем более что мальчик помогал ей по хозяйству не хуже любой служанки, да и обликом своим был просто загляденье: гладенький, бледненький, без единой кровиночки, такой славненький, что сошел бы и за девочку. Хрупкий на вид, ни дать ни взять – хрустальный Нарцисс в отрочестве, но без малейшего самолюбования. Напротив, к зеркалам мальчик питал необъяснимое отвращение и даже боязнь.
А вообще-то он был спокойный и послушный. Очень уж лакомый кусочек. Некоторое время Ролло колебался, не приобщить ли и мальчика к своим постельным забавам (вдову, склонную к рискованным экспериментам, вряд ли пришлось бы долго уговаривать), но затем вспомнил о своем нравственном преображении. Никаких противоестественных связей, только естественные. Гм.
Раздвоение, а то и растроение собственных влечений заставило Ролло как следует поразмыслить о природе Греха с большой буквы. Чем дольше он размышлял, тем сильнее убеждался: дробление – это и есть грех. Лишь в цельности обретаем подлинную свободу, чистоту и мир. Не то чтобы Ролло предавался жалкой рефлексии – сам факт фиксации сознания на определенных вещах был симптомом совести, а это уже явно лишнее приобретение.
Когда вдова поинтересовалась, откуда взялся мальчик, Ролло был вынужден с болью в сердце обмануть женщину. Не мог же он, в самом деле, сказать ей, где нашел мальчика! Он опасался, что подобное откровение непоправимо испортило бы их безмятежные отношения. Пришлось сочинить басню о безымянном сироте, которого Ролло во время своих странствий подобрал у запертых ворот монастыря госпитальеров (ох уж эти монахи!). Ролло украсил повествование такими правдоподобными и живописными штришками, что на секунду и сам явственно представил себе это: темная неприветливая громада монастыря, проливной дождь, собачий холод, вселенская тоска и, в довершение картины, – комок безнадежности у немых ворот, который лишь случайно попадает в свет фар проезжающего мимо автомобиля. Ролло останавливается и вылезает из теплого уютного салона под мерзкий дождь. Ледяные капли стучат по черному плащу, собираются в струйки, стекая с полей шляпы. А в машине у Ролло есть плед, еда и горячий кофе в термосе…
Кто хотя бы раз не примерял на себя нимб Спасителя? Во всяком случае, Ролло был чрезвычайно убедителен. Вдова пустила слезу умиления и не пожалела для «бедного сиротки» лишнего пирожка.
Что же до имени, то Ролло назвал мальчика Каналем. Сделал он это не без задней мысли – если бы понадобилось выдать его за девочку, Каналь легко трансформировался в Каналью. Для уличного балагана такой персонаж был неоценимой находкой. Оставалось только завязать ему платок на шее, чтобы прикрыть шрам от струны, и предупредить мальчишку, чтобы держал пасть на замке. Впрочем, Каналь и так не отличался разговорчивостью. Тот зловещий и почти нечленораздельный шорох, который иногда исходил из его искалеченной глотки, Ролло понимал без труда. Константа первое время пугалась, а потом привыкла.
Они зажили внешне как полноценная семейка. В гараже у вдовы стоял старый пикап галантерейщика. С любой техникой Ролло был на «ты», и руки у него росли откуда надо. Он быстренько приспособил пикап для своих нужд и размалевал его кузов, не поскупившись на богатства палитры: сказочные животные на фоне психоделического буйства красок.
Ролло также починил патефон вдовы, чем окончательно покорил ее сердце – на корпусе патефона имелась бронзовая табличка с выгравированной надписью: «Любимой Константе в день свадьбы от Данте». Ролло не стал уточнять, кем был этот Данте. Во всяком случае, галантерейщика звали иначе.
В лавке старьевщика Ролло за бесценок приобрел целую пачку пластинок времен своей третьей – условно, конечно, – молодости. Музыка должна была стать неотъемлемой частью его шоу.
По удачному стечению обстоятельств (хотя Ролло считал, что удача сопутствует достойным), вещи и обувь галантерейщика оказались ему впору, так что не пришлось тратиться на барахлишко. Как ни странно, галантерейщик, мир его праху, обладал отменным вкусом, удовлетворившим даже привередливого Ролло. И уж конечно, у Ролло не было предрассудков относительно ношения одежды покойника. Того, кто неоднократно примерял чужую плоть, чужие костюмы не стесняли ни в малейшей степени.
Ролло особенно нравились изделия из кожи. Сочетание кожи и матовых поверхностей металла – это была фирменная черта его стиля. Наличие стиля означало способность инстинктивно улавливать гармонию и многое извиняло в грубоватых или примитивных натурах. Впрочем, он не относил себя ни к тем, ни к другим. Даже в менее жестокие времена он не задавался вопросом, с кого содрана кожа. Однажды кожу сдирали с него самого. Причем живьем. Может, поэтому теперь он был готов на все, лишь бы не чувствовать себя до такой степени голым.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
в которой бывший крестоносец торгует информацией, а «почтовый ящик» делится ею бесплатно
Даже в самых богатых городах количество нищих, калек, психопатов и самоубийц не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось с каждым годом. Со временем скверна разрасталась свыше всяких терпимых пределов, и рано или поздно новые феодалы оказывались перед выбором: дальнейшая деградация или очищение кровью и огнем.
В прошлом Камень тоже не избежал подобных оздоровительных процедур кровопускания, но сейчас находился в ранней стадии болезни.
* * *Нищий лежал под церковным забором и был похож на груду тряпья. Когда крестоносец оказался в трех шагах от него, из груды протянулась рука и донеслось бормотание:
– Крест, подай брату…
Светили только звезды. Крестоносцу надо было нагнуться, чтобы разглядеть лицо нищего. Он действительно увидел кресты на щеках. Нищий зашевелился, и стало ясно, что у него нет обеих ног.
– Чего смотришь, брат? Когда-нибудь сам таким станешь.
Крестоносец ничего не почувствовал. Кто захочет знать свое будущее? Хотя, если перед ним один из возможных вариантов, к нему стоило присмотреться внимательнее. И он смотрел, пытаясь представить, каково это – сделаться безногим инвалидом и быть выброшенным на покой после долгого пути, полного страданий и лишений. Такой «покой», пожалуй, можно счесть издевательством более жестоким, чем предшествовавшая служба. Ну а разве кто-то обещал благодарность? И разве кто-нибудь ее ждал?
– Ладно, – сказал калека после долгого молчания. – Позволь мне заработать монету. Спроси у меня о чем-нибудь.
Крестоносец был уверен, что нищий давно лишился своего оружия. Впрочем, покончить с собой можно и при помощи подручных средств. Но почему он до сих пор не сдох от голода?
Не дождавшись вопроса, калека выложил свой товар:
– Кажется, я знаю, что тебе нужно. Странные вещи еще случаются, верно? В мое время их было больше… Как насчет младенца без ушей?
Крестоносец покачал головой. Не то.
– Двухголовая собака?
Мимо.
– Говорящее радио?
Снова мимо.
– Шесть самоубийств в один день?
– Где?
– Гони монету.
Крабья клешня схватила металлический диск еще до того, как стихло эхо.
– В Квартале Теней.
Крестоносец двинулся в прежнем направлении. Он всегда продолжал с того места, на котором его прервали. Внутренний порядок хоть в какой-то степени противостоял окружающему хаосу и абсурду.
– Спасибо, брат, – проворчал ему вслед калека, тщетно пытаясь согреть в ладони ледяную монету. Это была монета оттуда, и потому она имела двойную ценность. Слезы покатились по щекам нищего, омывая кресты. У него не хватило духу попросить о большем – о последней услуге, которую он принял бы только от другого крестоносца…
Кстати, этот был третьим на его памяти – двое навеки остались в Камне. Возможно, ждать следующего придется долго, очень долго. И, скорее всего, калека продаст ему то же самое. Лежалый товар, на который не находится других покупателей. Неужели он сам когда-то был таким – рыскал в поисках специфического зла, готовый к любым жертвам и принося жертвы с абсолютной безжалостностью ко всем, не исключая и себя? Уж лучше сдохнуть под забором. Но не сегодня. Благодаря монете он протянет еще пару ночей. Он пополз туда, где можно было обменять презренный и драгоценный металл крестоносцев на тепло, свет и горькое утешение.
* * *На безлюдной улице, носившей название Лунный бульвар, крестоносец обнаружил «почтовый ящик». Это был почти совершенный тайник – невидимый, неуничтожимый и недоступный ни для кого, кроме клейменных. Сейф, вырезанный из пространства и смещенный в область искаженного восприятия. Крестоносец нечасто имел дело с подобными штуками и всякий раз ощущал одно и то же. Очень отдаленно это напоминало прикосновение: будто чей-то ноготь скреб его по спине между лопатками.
Крестоносец остановился. Было бы глупостью игнорировать оставленное кем-то из братьев послание. Правда, ему приходилось слышать об изощренных ловушках, применяемых Черными Ангелами, – ложные «ящики» в лучшем случае выборочно стирали память, а в худшем убивали разум. Но разве старость не делает с человеком то же самое?
Над Лунным бульваром в ту ночь не было луны. Тьма текла подобно черной реке, впадающей в океан отчаяния. В ней иногда попадались утопленники, которых поток выносил затем к берегам дней. От субъективного величия сомнамбулизма и кошмаров – к жалкому погребению. Крестоносец слишком хорошо знал, что такое кошмары. Редкий сон обходился без них. И не было противоядия для подавления того, что гнездилось в подсознании и отравляло существование. А когда крестоносец сунул голову в «ящик», чтобы извлечь информацию, он познал кошмары брата, побывавшего в Камне задолго до него.
Он испытал что-то вроде мощного ментального удара. Слепок прошлого, отпечатавшийся в мозгу, был, несомненно, полезен, ибо содержал сведения о планировке Камня и о том, что представляет собой каждая из его частей. Но, кроме положительного практического знания, он вобрал в себя сгусток страха, тайн, невнятных угроз и предсмертной боли. То, что хранилось в «ящике», нельзя было разделить на явь и галлюцинации, поэтому крестоносец оказался в трудном положении: фильм из чужой жизни, который он просмотрел за долю секунды и который стал частью его самого, напоминал отчет об аварии с многочисленными жертвами, случившейся на перекрестке реальности и сновидений.
Так он узнал, кому принадлежала старая сеть, остатки которой витали на окраинах Камня – зыбкие свидетельства поражения его предшественника. Не исключено, что ему уготована та же участь. Поэтому он оставил в «ящике» сообщение для братьев, что придут следом, и отправился дальше своей извилистой дорогой, опутывая сетью город, мнимый покой которого не мог ввести в заблуждение никого из преследующих и никого из преследуемых.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
в которой все идет своим чередом, население приобщается к искусству, а Ролло занят своим хобби и роняет зерна
Месяц – что соответствовало более оптимистичному прогнозу одного из слепых стражников – давно прошел, а Ролло до сих пор не столкнулся ни с чем таким, к чему не был бы готов. Камень, по его мнению, – город как город, ничем не хуже и не лучше многих других. Тут можно сносно существовать, а на большее Ролло пока не замахивается.
Камень огромен, и Ролло надеется, что любопытства здешних обывателей ему хватит надолго. Он устраивает представления всякий раз на новом месте. Выбирает площадь, сквер или просто достаточно широкую улицу, паркует пикап, расставляет нехитрые декорации и готовит реквизит. Каналь, наряженный то восточным принцем, то цыганкой, то пиратом, то монахом, то Смертью (многообразие персонажей неисчерпаемо, как фантазия Ролло и запасы барахла в лавке старьевщика), с успехом заменяет афишу. Он ведет себя в соответствии с заранее отрепетированной ролью, а его тихий шипящий голос лишь подогревает интерес. Даже торговки и тупицы замолкают, пытаясь расслышать, о чем там шепчет странное создание, похожее на экзотическую птичку, залетевшую в Камень прямиком из легенд и сказок, по большей части страшноватых.
Кроме того, хозяин балаганчика тщательно подбирает музыку. Привлечь внимание обывателя не трудно – средний человечишка отчаянно скучает, – труднее удержать его внимание в течение некоторого времени и убедить расстаться с денежками. Это уже дело Ролло, и по части вытряхивания монет из чужих карманов он мастер каких мало.
Порой он настолько входит во вкус, что ему приходится ограничивать себя, чтобы не натворить лишнего. «Лишнее» – это все связанное с магией, запрещенной так называемым Боунсвилльским Протоколом. Когда-то Ролло изучил Протокол от первой буквы до последней завитушки в последней подписи. Он отлично понимает, что двигало теми, кто собрался в Боунсвилле, городе собирателей костей, чтобы составить и подписать знаменитый документ, но от этого не легче – ему предлагается играть колодой, в которой отсутствуют старшие козыри, или пиликать на скрипочке с одной струной вместо четырех, или оперировать кухонным ножом… и так далее.
Само собой, в Протоколе, как в любом законе, имеются дырки, и Ролло иногда этим пользуется, чтобы ублажить себя. Ублажая других, приходится считаться с вероятностью доноса. Правда, уровень обычного потребителя зрелищ не внушает опасений, но Ролло предпочитает не рисковать. Его балаганчик и так вызывает немалый интерес. Некоторые лица он видит по нескольку раз на неделе и тогда начинает намеренно повторяться, чтобы отбить у поклонников охоту приходить снова – постоянные зрители ему не нужны. Это противоречит самой идее уличного представления. Тут все мимолетно, однократно, зыбко; маленькое чудо сразу же превращается в воспоминание. В чем прелесть воспоминаний? В том, что ничего нельзя вернуть и повторить – ни Ту Самую Минуту, ни Тот Поцелуй, ни Тот Цветущий Сад, ни Того Человека, ни даже тогдашнего себя.
Ролло не какой-нибудь дешевый трюкач в поисках легкой наживы. Он вкладывает в свое искусство свои обновленные души. При желании в каждом его номере может найти пищу для размышлений философ, психоаналитик, богослов, восторженный юноша или умудренный жизненным опытом меланхолик. А Каналь будто создан для того, чтобы играть в театре абсурда. Плачет и смеется он только по приказу хозяина; ему не нужны маски – если Ролло и гримирует его, то самую малость.
Так за днями проходят дни, проходит время, которое и должно проходить, течь, бежать, тянуться, лететь – и только иногда, очень редко, останавливаться. Капризная это штука – время. Ролло знает, как трудно приспособиться к его непостоянству. Скорость течения времени в Камне его устраивает – пока. Но понимает он и то, что период относительного благополучия рано или поздно закончится. И если он готов к этому, значит, судьбе больше нечего у него отнять.
* * *Однажды он дает представление в Квартале Теней. Ролло наслышан об этом месте и не случайно оказывается здесь со своим раскрашенным пикапом.
К тому времени он уже успел войти во вкус – роль творца в миниатюре ему весьма импонирует и при этом почти ни к чему не обязывает. Он не агрессивен, но и не хочет, чтобы его тревожили. Он никогда больше не нападет первым, но и не позволит себе остаться беззащитным. Он уже не охотник, но ни в коем случае не жертва. Даже в изгнании он жаждет покоя, и раз уж обрел временное пристанище, то готов на многое ради сохранения status quo.
Создавать двойников – его старое хобби, в котором он достиг совершенства. Это многократно спасало его от лишних утомительных хлопот и на какой-то срок избавляло от преследования со стороны крестоносцев. И, поскольку абсолютный покой для него немыслим, он довольствуется более или менее продолжительными передышками. За любой Дверью он использует двойников. Тонкое и малоизвестное искусство множить свой тайный образ не имеет ничего общего с вульгарным приданием внешнего сходства. Среди двойников, оставленных Ролло в разных мирах, – мужчины и женщины разных возрастов и рас, иногда даже дети. К его сожалению, большинство из них попадает в расставленные сети – от проклятых крестоносцев поблажек ждать не приходится, – но некоторым все же удается ускользнуть. То, что кое-где их объявляют одержимыми и поступают с ними как с дикими зверьми, его не удивляет – фанатиков хватает везде, в мире нет ни терпимости, ни гармонии. Сложность его игры возрастает пропорционально количеству фигур, и потому он часто выигрывает партии, хотя и знает, что окончательной победы ему не видать. Он создает двойников снова и снова, иногда чувствуя себя матерью и отцом одновременно. Наделяет их голосами и, как ни странно, помнит именно голоса. В любой момент он может заговорить или запеть голосом давно уже казненного двойника, услышать эхо то ли своих, то ли чужих слов, и для него оно звучит едва ли не лучшей музыкой.
Очутившись в Квартале Теней, Ролло уже через минуту понимает, что не зря тащился сюда через весь город. В здешнем воздухе разлито нечто. Зритель – тот, что еще обременен плотью, – тут довольно специфический. В основном это изгои всех мастей, деклассированный элемент, аристократы духа, непризнанные гении, последовательницы Сапфо, диссиденты, декаденты, доморощенные маги, которым ничего не светит, но зато ничего и не грозит, потому что они понятия не имеют о подлинных опасениях тех, кто подписал Протокол в Боунсвилле. Самый распространенный здесь диагноз – мания величия, хватает также всевозможных фобий. Среди прочих пороков и уязвимостей – почти поголовная грамотность, фрустрация и непреходящий экзистенциальный страх.
Ролло понимает, что нынче же его семена падут на благодатную почву. Самозапрет на убийства несколько стесняет его в средствах и методах действия, однако кто сказал, что намекнуть на бесцельность дальнейшего существования есть преступление? Ролло делает это максимально тактичным образом. Поставленный им и гениально исполненный Каналем моноспектакль имеет невероятный успех. Настолько оглушительный, что по завершении воцаряется гробовая тишина. Она длится, длится и длится… Ролло кажется, что даже потрясенные тени застыли в оцепенении и больше не убегают от умирающего кровавого солнца. Закат мира, так прекрасно разыгранный в балаганчике Ролло, застает их врасплох. Они думали, что у них еще есть время, но времени нет ни у кого.
В такой же зловещей и торжественной тишине Ролло свинчивает декорации и удаляется медленно и с достоинством, сопровождаемый молчаливым бледным мальчиком. Черный шелковый цилиндр для сбора средств пуст. Деньги на этот раз не имеют значения. Наградой мастеру послужит будущий урожай.
Ролло возвращается в дом вдовы и мирно ужинает с нею. Затем предается любви, трижды оседлав свою волоокую газель. Удовлетворенная вдова засыпает; он ждет. Прислушивается к голосам ночных птиц. Наконец идет в сад, открывает неприметную калитку, ведущую в переулок. Встречает безмолвных гостей. Они приходят из тьмы и некоторое время спустя уходят во тьму; он вдыхает в них частицу новой жизни. Они уже никогда не будут прежними – осколки разбитого зеркала Ролло. В каждом – его неполное отражение, мазок его кисти, запах его сердца, его проглоченное дыхание, один из его голосов…
К исходу ночи число его двойников достигает шести. Он отправляет их во все стороны, словно письма с несуществующими обратными адресами. Так многоликий Ролло заново осваивает Камень.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
в которой крестоносец снимает три номера, голова на блюде подмигивает, а пьяница обламывается с пожеланиями
Гостиница называлась «На полпути к…». Крестоносцу это понравилось. В самом деле: каждый мог выбрать для себя продолжение. И не так уж много путей остается, когда жизнь застигнет тебя врасплох между небом и преисподней. Куда пойдешь? Где будешь искать приюта? Захочешь ли вернуться домой? А вдруг захочешь, но сможешь ли? И если большинству подобные вопросы глубоко безразличны, то это означает лишь одно: большинство и не живет, а только вяло плывет по течению, как объедки в сточной канаве.
Рассветная бледная немочь уже вползала на улицы. Крестоносец решил, что недолгая остановка ему не помешает. Даже неисправимые бродяги питают слабость к определенным местам. Но он не был бродягой. Он был странником, которому до поры отказано в покое, настоящем приюте и особом тепле домашнего очага. Нигде он не чувствовал себя дома. Он пока не заслужил возвращения домой, не знал нужной дороги и даже не видел указателя. Еще один повод задержаться в «На полпути к…».
То, что погибший крестоносец, его предшественник, ничего не сообщал об этой гостинице, показалось ему хорошим знаком. Он нередко ходил путями мертвых, но все же предпочитал пути живых. Когда он вошел, звякнул колокольчик над дверью, разбудивший ночного портье. Разглядев, какого постояльца принесла нелегкая, портье, конечно, не обрадовался и сделался чрезвычайно осторожным в словах и телодвижениях.
Крестоносец снял три номера на втором этаже – он никогда не экономил на безопасности. Получив ключи, он пересек вестибюль и заглянул в гостиничный бар. В полутемном помещении расположились двое – судя по всему, давно, всерьез и надолго. Бар выглядел как кают-компания на затонувшем корабле, в которой остались пассажиры, выяснившие, что могут недурно обходиться без воздуха – хватало бы выпивки. А ее хватало. Один из пьющих был в одежде священника, другой смахивал на опустившегося актера, хотя вполне сошел бы и за аптекаря или, например, архивариуса.