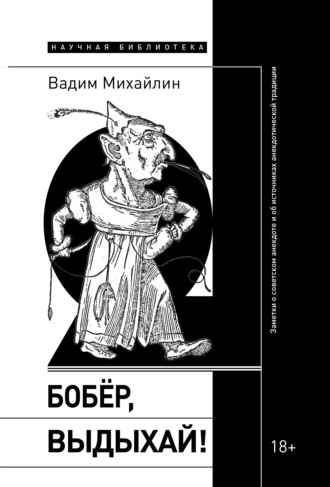
Полная версия
Бобер, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции

Вадим Михайлин
Бобер, выдыхай!. Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции
Автор выражает благодарность всем хорошим рассказчикам и слушателям, которых ему довелось встретить.
© В. Ю. Михайлин, 2022
© И. Дик, дизайн обложки, 2022
© OOO «Новое литературное обозрение», 2022
Исходные посылки
Я прошу воспринимать этот текст не как результат полноценного исследования в области городского фольклора или социологии повседневности, а как попытку обозначить возможную точку зрения на позднесоветскую «анекдотическую» культуру, культуру рассказывания анекдотов, исходя при этом из желания представить из историко-антропологической перспективы материал, в той или иной степени – на эмпирическом уровне – знакомый большинству населения современной России. Причина для того, чтобы собрать и связать эти замечания, носит элементарный прагматический характер – меня всегда интересовали функционирование зооморфных культурных кодов и та роль, которую они играют в кодифицировании коллективной и индивидуальной памяти, в процессе выстраивания стратегий саморепрезентации, трансляции устойчивых аттитюдов – и в прочих сферах, связанных с регулированием социального поведения. В этом смысле русский зооморфный анекдот представляет собой материал, с одной стороны, вполне очевидный, а с другой – почти не изученный и даже как следует не опубликованный в профессиональном смысле этого понятия. Кроме того, этот материал совершенно уникален по своим характеристикам, поскольку исходный коммуникативный жанр «рассказывания анекдота», зафиксированная текстовая составляющая которого как раз и именуется «анекдотом», существует на стыке приватных и публичных дискурсов и активно участвует в «переводе» с одних, публичных языков на языки другие, приватные. Еще одна причина для написания этой книги – публикаторская. Во второй ее части значительное место будет отведено самим анекдотическим текстам, которые, как мне кажется, смогут дать пусть неполное, но все-таки систематизированное в первом приближении представление о материале.
Не будучи профессиональным фольклористом, я почти не скован той неразрешимой проблемой, которая, видимо, отчасти и препятствует появлению соответствующих исследований: проблемой источника. Я понимаю, почему специалисты по советскому анекдоту предпочитают сосредоточиться на анекдоте политическом: помимо очевидной конъюнктурной (в безоценочном, научно-прагматическом смысле этого слова) составляющей, связанной с возможностью изучения общественных политико-ориентированных настроений на уровне grass roots, здесь есть еще и более или менее надежная источниковая база, в том виде, в котором она обозначена, скажем, во вступительной части самого представительного на сегодняшний день собрания советского политического анекдота, созданного Михаилом Мельниченко, – именно и исключительно анекдота политического, хотя книга почему-то называется куда шире: «Советский анекдот (Указатель сюжетов)»[1]. Анекдот, как уже было сказано, является едва ли не эндемиком промежуточного пространства между публичными и приватными контекстами, и активная работа по присвоению этого пространства, которую на протяжении ХХ века вели разного рода публичные элиты, не могла не оставить большого количества самых разнообразных следов – от печатных публикаций до уголовных дел в отношении тех, кого «за анекдот» как раз и сажали. А доступность фиксированного текста, в каком бы виде этот текст ни доходил до современного исследователя, означает еще и возможность более или менее строгой датировки. В отношении других анекдотических жанров ничего подобного у нас попросту нет – по крайней мере, на системном уровне, если не иметь в виду разрозненные фиксации в художественных, эпистолярных и прочих текстах, которые могут дать некоторую, не всегда надежную привязку для конкретного сюжета. Многочисленные сборники анекдотов, появившиеся в последние годы советской власти и успевшие с тех пор перекочевать в сетевое пространство, характеризуют состояние поля на конечной стадии развития советской анекдотической традиции и не более того. Причем они еще и искажают это поле, поскольку представляют собой попытку «перевести» перформативный жанр в плоскость квазилитературную, радикально изменив при этом форму существования жанра и его коммуникативную прагматику; впрочем, этим же в той или иной степени страдают едва ли не все существующие на данный момент аутентичные (то есть относящиеся к конкретному периоду советской истории) письменные источники, от протоколов до личных дневников.
Впрочем, опять же, не будучи фольклористом, я могу себе позволить обращаться к такому специфическому источнику, как «эго-архив»: к собственной памяти, которая, в силу того что я, сколько сам себя помню, был активным пользователем такой специфически позднесоветской коммуникативной среды, как «общение на анекдотах», дает не только соответствующую базу текстов, но и сопутствующие воспоминания о времени «приобретения» конкретного сюжета и о ситуативных обстоятельствах его исполнения. Существенная оговорка здесь, конечно же, связана с исследовательской позицией – особенно в том, что касается имплицитно заложенной в названии текста культурной динамики, некоего молчаливо подразумеваемого перехода от культуры «собственно советской» к культуре «позднесоветской». Усложнение анекдотической традиции, которое трудно было не заметить «изнутри» процесса, конечно же, отчасти могло быть связано с собственным взрослением и приобщением к более сложным культурным контекстам: но только отчасти, поскольку среда «общения на анекдотах» с самого начала не была строго приписана к какой-то конкретной возрастной или социальной страте, а различия между текстами по шкале «примитивное» / «изысканное» (при той степени изысканности, которая доступна короткому перформативному жанру модерного фольклора[2]) я ощущал как минимум со среднего школьного возраста, то есть с середины семидесятых, когда уже обладал достаточно обширным багажом анекдотов, в том числе и зооморфных. Традиция развивалась на моих глазах, и те ее элементы, что появились ближе к рубежу 1970–1980‐х годов, порой настолько существенно отличались от предшествующего набора средств воздействия на аудиторию, что объяснять эту динамику особенностями индивидуального коммуникативного поведения, а не серьезного «сдвига среды», значило бы согласиться на куда более серьезное интерпретативное искажение материала.
Кроме того, не может не работать еще и «критерий бородатости»: реакция коммуникативных сред на предложенный анекдот ощутимо различается в зависимости от степени «свежести» этого анекдота. Причем реакция эта зависит не только от знакомства аудитории с конкретным текстом или с его вариантами, но ориентирована и на «историю жанра», воплощенную в степенях адекватности и востребованности конкретных микрожанров. В конце 1970‐х годов анекдот про Штирлица с большой долей вероятности провоцировал аудиторию на поддержку предложенной ситуации рассказывания и вызывал своего рода цепную реакцию: участники сверяли имеющиеся у них наборы сюжетов и радовались, если у кого-то находился анекдот, не знакомый другим. Серия была относительно молодой, и пусть она – в значительной степени – была построена на нехитрой и зачастую предсказуемой языковой игре, но в предыдущей традиции советского анекдота подобные жанровые разновидности если и не отсутствовали вовсе, то не были широко (на уровне целой серии) приняты, эта игра еще не успела стать рутинной и воспринималась как «живая». А вот рассказывая анекдот про Чапаева или зооморфный анекдот с традиционным набором действующих лиц (заяц, волк, лиса, медведь), исполнитель, для того чтобы вызвать сходную коммуникативную реакцию, должен был предложить некий нестандартный жанровый вариант; в противном случае коммуникативная ситуация с большой долей вероятности складывалась не в его пользу.
И еще несколько необходимых оговорок, прежде чем дело дойдет до самого материала. Приведенные ниже примеры не будут расшифровками профессиональных фольклористских записей, но в них я постараюсь максимально точно передать исходную ситуацию рассказывания анекдота. Ремарки, описывающие невербальные компоненты перформанса, будут сведены к необходимому минимуму и, как правило, станут отмечать пуант или другую сильную позицию – к которым в ситуации рассказывания чаще всего и привязана наиболее четко выраженная невербальная составляющая жанра. Цензурные соображения также будут играть минимально необходимую роль: в большинстве примеров я опущу обсценные конструкции, которые выполняют сугубо коммуникативные задачи, ситуативно обусловленные и связанные с демонстративным поведением, с ритмической разметкой нарратива и т. д. (многочисленные матерные маркеры, насыщенность которыми серьезно варьировалась в зависимости от состава аудитории и, шире, от условий исполнения). Но эвфемизмами я пользоваться не стану, а в ряде случаев (опять же, в качестве дополнительного маркера сильных повествовательных позиций) сохраню и значимые для передачи эмоциональной составляющей перформанса – или просто ритмически значимые – матерные конструкции. Анекдот – по крайней мере в том виде, в котором он существовал в рамках сугубо мужской аудитории (то есть на аутентичной для себя территории), – матерным был всегда, и лишать его этой значимой компоненты было бы попросту непрофессионально: это исследовательский текст, а не салонная подборка смешных сюжетов[3]. То же касается и соображений политкорректности. Сам жанр не просто не считается с политкорректностью, он активно деконструирует любые ее разновидности, а потому слово «пидор» будет писаться так, как произносится в процессе рассказывания анекдота.
Итак, обозначу исходные посылки.
Во-первых, анекдот есть прежде всего жанр коммуникативный и перформативный, в котором собственно текст составляет нечто вроде либретто, а потому сугубо текстологическое его изучение для понимания самого явления может служить разве что на правах вспомогательной дисциплины.
Во-вторых, как и любой жанр – перформативный, литературный и т. д., – анекдот представляет собой производное от системы ожиданий целевой аудитории и как таковое являет нам значимый источник по изучению социальных аттитюдов, моральных диспозиций, групповой памяти и общего культурного багажа тех социальных сред, в которых он функционирует.
В-третьих, условием успешного функционирования анекдота является адекватность как ситуативного исполнителя, так и ситуативного реципиента (они могут меняться местами) тому набору клишированных представлений и аттитюдов, которые составляют основу конкретной повседневной культуры – ранжируемой далее в рамках некоего весьма обширного и аморфного целого под названием «советская культура» по временным периодам, социальным стратам, локальным инвариантам и так далее. Среди прагматических аспектов жанра особую значимость играет роль камертона, которую он способен выполнять при определении «публики своих»[4], то есть социальной среды, наиболее адекватной конкретному культурному горизонту. В одной из ипостасей анекдот представляет собой своего рода «прощупывающий» жанр, который помогает ориентироваться в не полностью прозрачных социальных средах. Именно в этом состоит одна из очевидных причин его массовой популярности в советской неофициальной/повседневной культуре начиная с 1920‐х годов: резкое расширение советской публичности и массовое вовлечение в нее (зачастую насильственное) неадаптированных к этому индивидов и групп настойчиво обозначило потребность в непрямых техниках определения «своих», в навыках непрямого же ситуативного моделирования и т. д. Отсюда же может следовать и обостренная реакция власти на подъем этого жанра и борьба с ним как с альтернативным и максимально диффузным источником производства смыслов, как с очевидным свидетельством существования в советских социально-коммуникативных средах конкурентных форм (само)определения.
В-четвертых, анекдот – реципрокный коммуникативный жанр, требующий (в идеале) равной и незаинтересованной вовлеченности участников перформанса. Идеальной формой его существования является чистое «общение на анекдотах» («травля анекдотов»), позволяющее выстраивать между участниками коммуникации специфические режимы доверия и ситуативной вовлеченности. От участников не требуется сколько-нибудь четкое и аргументированное предъявление личных позиций по каким бы то ни было темам – политическим, социальным, моральным и так далее. Анекдот позволяет обозначать подобную позицию (как правило, критически заостренную) в максимально дистантном режиме, используя жанр в качестве ширмы, за которой будут скрыты и степень личной заинтересованности в теме, и сколько-нибудь надежная информация об индивидуальной (моральной, идеологической и т. д.) позиции. При этом набор сигналов, позволяющий «опознать своего», так или иначе считывается как рассказчиком, так и адресатом рассказа.
И, наконец, в-пятых, анекдот существует в достаточно специфической «серой зоне» между широкой публичностью и микрогрупповыми техниками плетения социальной ткани. В этом смысле он выполняет еще одну весьма любопытную функцию: мешает смыслам, которые конструируются элитами, выполнять те манипулятивные задачи, которые перед ними поставлены, разрушает механизм формирования «мифа» в бартовском смысле слова. Анекдот отстраняет и остранняет те смыслы, которые транслируются как априорные, создает – до определенной степени – подушку безопасности между индивидуальным сознанием (и стоящими за ним микрогрупповыми уровнями ситуативного кодирования) и публичностью. Причем в данном случае имеет смысл вести речь о вполне конкретном микрогрупповом уровне ситуативного кодирования – об уровне стайном, который обладает весьма специфическим набором характеристик: без учета этих характеристик, с моей точки зрения, наши представления об анекдоте обречены оставаться в плену сугубо описательных моделей. «Стайный» уровень ситуативного кодирования предполагает полное отсутствие априорных смыслов; ситуативную обусловленность сколь угодно жестких социальных связей, которые в любой момент могут быть радикально переформатированы; отсутствие строгих ситуативных рамок (всякая ситуация может внезапно стать ситуацией включения или ситуацией исключения для любого компонента, относящегося к любому структурному уровню); любая попытка навязывания внешних иерархий или даже просто устойчивых внешних связей с системами, организованными «непрозрачно» для стайного уровня, приводит к «умножению на ноль» и к срыву коммуникации.
Стайный уровень ситуативного кодирования с детства является для каждого из нас той – далеко не всегда комфортной – зоной свободы, где мы привыкли укрываться от обязывающих манипулятивных стратегий со стороны разного рода «взрослых» – вне зависимости от того, опираются эти стратегии на априорное давление (исходя из семейного уровня ситуативного кодирования) или на «договор» (исходя из «соседского» уровня ситуативного кодирования). В любом случае те смыслы, которые полагаются значимыми, исходя из «взрослых» позиций, перекодируются на «стайный язык» и, соответственно, утрачивают всякое право как на априорность, так и на конвенциональность. И чем больше внешняя инстанция настаивает на их значимости, «серьезности», тем более радикальным будет это перекодирование[5]. Анекдот по преимуществу говорит именно на этом «языке» и, соответственно, «переводит» на него все те элементы, которые заимствует из широкой публичности. Стратегий подобного перевода, связанного с деконструкцией публичного пафоса, на самом деле очень немного, и каждая конкретная модель является результатом помещения того или иного «пафосного» элемента – модели поведения, сюжета, персонажа, идеи, формулировки и так далее – в одну из привычных для стайного кодирования перспектив, связанных с:
1) агрессией, брутальностью, демонстративной и гегемонной маскулинностью. Пример:
Экскурсовод в разливе рассказывает детям о Ленине. «Владимир Ильич был человеком удивительно добрым. Недаром про него говорят: самый человечный человек. Вот как-то раз был такой случай. Сидит Ильич у шалаша и чистит бритвой яблоко. Идет мимо маленький мальчик, из местных, из крестьян. И говорит: „Дяденька, а дай яблочко!“ А Ленин смотрит на него так ласково и отвечает: „А иди-ка ты на хуй!“» Один из школьников: «А где же тут доброта?» Экскурсовод (исполнитель покровительственно улыбается): «Да ведь мог бы и бритвой полоснуть!»
2) максимально примитивизированной эротикой, основанной на тотальной объективации партнера. Пример:
Вопрос армянскому радио: в чем сходство между женщиной и грампластинкой?
Ответ: Поиграл – переверни, играй снова.
3) демонстративным же настаиванием на «личной свободе», праве на отстаивание собственных интересов без оглядки на интересы других, то есть с объективацией любого другого участника ситуации; в переводе на язык публичности это называется предельным эгоизмом и эгоцентризмом. Пример:
Лежат мужик и баба в постели, и вдруг – ключ в двери. «Муж вернулся, прыгай в окно!» Мужик открывает окно (исполнитель отшатывается и испуганно оглядывается): «Так седьмой этаж!» – «Прыгай давай!» Мужик прыгает, расшибается. Баба выглядывает в окошко (исполнитель перегибается через воображаемый подоконник, изображает громкий театральный шепот и делает акцентированную двойную отмашку рукой в сторону): «А теперь отползай!.. Отползай!!!»
4) приписыванием другим участникам ситуации черт, наличие которых с точки зрения стайной этики унижает их и делает недостойными уважительного отношения. Это, прежде всего, черты феминные, черты, связанные с излишне эгоистическим поведением (как бы парадоксально это ни звучало в контексте предыдущего пункта), и, применительно к русской стайной культуре, – черты, связанные с демонстративной или скрытой мужской гомосексуальностью. Пример:
Лежит в постели Горький. Заходит Ленин, нагибается над ним, подтыкает одеяло и говорит (исполнитель миксует киношную ленинскую картавинку с манерной интонацией пассивного гомосексуалиста): «Ну кто ж назвал тебя Горьким, сладенький ты мой…»
Эффект усиливается еще и тем, что сама смоделированная в анекдоте ситуация отсылает к советскому – школьной канонической лениниане, где почетное место занимал почерпнутый из воспоминаний М. Ф. Андреевой эпизод, в котором Ленин лично проверял в лондонской гостинице, не влажные ли простыни постелили в номере, предназначенном для Горького.
5) «переводом» текста и, соответственно, стоящей за ним проективной ситуации с одного культурного кода, очевидным образом встроенного в систему доминирующих публичных дискурсов, на другой, приближенный к низовым/бытовым/субкультурным контекстам. Пример:
Стоит на горе Мальчиш-Кибальчиш, размахивает саблей и кричит (исполнитель делает «плакатное» выражение лица и декламирует с интонацией из детского спектакля на пионерском сборе): «Измена! Измена!» А под горой сидит Мальчиш-Плохиш, жрет печенье с вареньем и приговаривает (исполнитель переходит на задушевно-рассудительный тон из оттепельного «искреннего» фильма): «А меня что-то на хавчик пробило…»
Ключевое словосочетание из молодежного слэнга 1970–1990‐х годов здесь остается за кадром: зритель должен сам осуществить процедуру перевода, тем самым радикально изменив смысл как первой реплики Мальчиша-Кибальчиша, так и всей ситуации. Понятием «на измене» («пробило на измену») обозначается состояние испуга, паники, растерянности, – тем самым Мальчиш-Кибальчиш из самозабвенного гайдаровского героя превращается в труса и паникера, потерявшего от страха голову, и противопоставляется Мальчишу-Плохишу уже не как предателю, а как вполне симпатичному персонажу, который даже в кризисной ситуации способен сохранять полное спокойствие и приверженность маленьким плотским радостям. Мультипликационный фильм Александры Снежко-Блоцкой «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1958), снятый в «плакатной» оттепельной манере, апеллирующей к искусству Революции через голову сталинской эстетики, и посвященный «славному ленинскому комсомолу», показывали по телевизору по нескольку раз в год, к каждой более или менее подходящей дате. Так что не ассоциироваться с официозным советским пафосом он просто не мог – и буквально взывал к анекдотической деконструкции.
О когнитивных основаниях ситуации рассказывания анекдота
Здесь и рождается анекдот как коммуникативный жанр, позволяющий деконструировать любой пафос. Механизм его ситуационно-коммуникативного воздействия, связанного с производством того, что мы привычно понимаем как юмор, предельно прост и был описан в самом общем виде еще в 1970‐х годах Виктором Раскиным, одним из отцов-основателей «Международного общества по изучению юмора» и журнала Humor (с 1988 г.): «…humorous element is the result of a partial overlap of two (or more) different and in a sense opposite scripts which are all compatible (fully or partially) with the text carrying this element»[6]. В зависимости от избранной исследовательской перспективы и от связанного с ней терминологического инструментария, здесь можно говорить о сценариях (скриптах) в том смысле, который развивается в лингвистике, теории коммуникации и теории искусственного интеллекта начиная со времен Сильвана Томкинса[7], или о фреймах в социоантропологическом, гофмановском смысле слова[8], но общая картина происходящего останется примерно той же. В любом случае мы имеем дело с наложением двух или более интерпретативных систем, каждая из которых не противоречит предложенному проективному сюжету, – что приводит к моментальному сбою режимов инференции и к необходимости «включить» экстраординарные (неавтоматизированные, не привязанные к привычным сценариям) режимы оценки поступающей информации. Существует две основные группы быстрых реакций на подобный сбой, которые условно можно обозначить как связанные с испугом и связанные со смехом. Поскольку ситуация рассказывания анекдота с самого начала организуется как игровая, ориентированная прежде всего не на интерпретацию той актуальной ситуации, в которой пребывают исполнитель и его аудитория, а на оперирование «несерьезными» проективными реальностями, то реакции, связанные с испугом, как правило, нерелевантны – а вот реакции смеховые ситуативно вполне адекватны.
Впрочем, бывают исключения, связанные именно с актуализацией той тонкой грани, которая разделяет два типа реакции на моментальный сбой инференции, испуг и смех, – причем само наличие этих исключений свидетельствует об известной «саморефлексии жанра», о его способности учитывать и обыгрывать специфические черты собственной когнитивной природы. Так, один из не слишком распространенных типов позднесоветского анекдота предполагал знакомство аудитории с другим «фольклорным» жанром – жанром детской страшной истории. Ситуация рассказывания с самого начала строилась на столкновении двух коммуникативных сценариев: рассказчик задавал вопрос о том, знает ли аудитория анекдот «про золотую ручку», тем самым обозначая дальнейший перформатив именно как исполнение анекдота. Для того чтобы исполнение было успешным, требовалось, чтобы как минимум один из слушателей «анекдота не знал»; вместе с тем знакомство других участников ситуации с обещанным сюжетом приветствовалось, хотя и не проговаривалось вслух[9]. Однако особенности исполнения анекдота (специфическая интонация и слегка замедленный, подчеркнуто «сказительский» ритм повествования; нарочито «детские» обозначения персонажей, нарушающие привычный режим «стайной иронии») актуализировали у слушателя совсем другой коммуникативный сценарий, связанный с восприятием детской страшилки:
В одном городе жила-была тетечка, и была у нее золотая ручка[10]. И все ей завидовали, но она никому эту ручку даже подержать не давала. Даже дядечке, который был ее мужем. А потом тетечка умерла, ее похоронили, и ручку закопали вместе с ней. А дядечка решил золотую ручку достать. И вот ночью идет он на кладбище и видит[11]: могила тетечки разрыта, а над могилой стоит сама тетечка в белом саване (исполнитель начинает говорить медленнее и тише). «Тетечка, – говорит дядечка, – а где твоя золотая ручка?» (Исполнитель выдерживает драматическую паузу, после которой и он сам, и те участники ситуации, которые «знают анекдот» и с самого начала исполнения скрыто переквалифицировались из слушателей в соучастники исполнения, резко выбрасывают руку вперед и кричат во весь голос, максимально «страшно»): «А ВОТ ОНА!!!»
Подобный пуант нарушает оба предложенных сценария. И рассказывание анекдота, и рассказывание страшилки заканчиваются в спокойной констатирующей интонации, которая в первом случае должна подвести слушателя к иллюзии «внезапного самостоятельного понимания» и задействовать «чувство юмора», а во втором – позволить слушателю сопоставить страшную и безнадежную проективную реальность с собственной актуальностью и получить удовольствие от «избегания зримой опасности». Здесь же акцент внезапно переносится именно в актуальность: исполнитель (и сотрудничающая с ним часть аудитории) задействует кинетические и звуковые сигналы, рассчитанные на немедленный испуг слушателя. А смеховая реакция наступает чуть позже, после того как слушатель сопоставляет неадекватность собственного испуга актуальному положению вещей, которое снова сводится к игровой ситуации рассказывания анекдота (что, как правило, подтверждается смехом исполнителя/исполнителей, для которых пуантом становится испуг слушателя).

