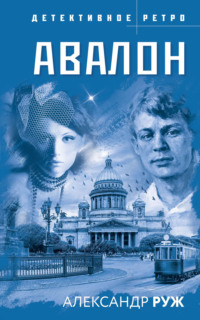Полная версия
Любовный детектив

Любовный детектив
Сборник рассказов
Александр Руж
Две строки из Овидия
Что собой представлял румынский городок Констанца в середине XIX века?
Да ничего особенного.
Бывшая греческая, а потом римская колония, знаменитая тем, что на ее территории скончался сосланный императором Августом поэт Овидий. Бессчетное количество раз она переходила из рук в руки, принадлежала то византийцам, то болгарам, то османам, а ныне превратилась в задворки Российской державы. Милые такие задворки, с великолепным климатом, чудесными видами, но, к сожалению, настолько однообразные, что сюда ехали на отдых разве что престарелые пары, уставшие от суеты.
Анита Моррьентес, урожденная испанка, которую после эмиграции в Россию величали Анной Сергеевной, и Алекс, он же Алексей Петрович Максимов, вовсе не были престарелой парой. Аните недавно исполнилось тридцать, Алексу – немногим больше. И нечего было бы им делать в городе стариков, если б не затейливая прихоть судьбы. Они путешествовали по Европе, но поездка не задалась: Аниту преследовали болезни, она перенесла сперва холеру, потом двустороннюю пневмонию. Во многом это заставило маленькую семью свернуть с намеченного маршрута и угнездиться в северном пригороде Констанцы, в курортном поселке, где, по заверениям местных докторов, соленый воздух, целебные грязи и живительное вино всячески способствовали восстановлению организма.
Русских, равно как и румын, в Констанце проживало крайне мало. Подавляющее большинство населения составляли греки и татары, переселившиеся из Крыма. Найти с ними общий язык оказалось не так просто: одни не понимали ни единого наречия, кроме родного, а другие в силу нелюдимости отмалчивались.
В середине сентября, когда стояла изумительная погода – с нежарким солнцем и легкими бризами, – в город прибыл отставной генерал от инфантерии Юрий Антонович Ольшанский с супругой Натальей Гавриловной. Строго говоря, их нельзя было причислить к законченным старикам: пятидесятилетний генерал смотрелся моложаво, а его дражайшая половина хоть и слегка располнела с возрастом, но старалась следить за внешностью, подбирала наряды новомодных фасонов, делала на ночь маски из капустных листьев и ежедневно меняла прически – словом, не производила впечатления старухи, доживающей свой век.
Максимовы встретились с Ольшанскими волей случая. На центральной площади давал представление заезжий акробат Жан Родригес Мюллер (так значилось на афише), толпились зрители, среди которых Максимов углядел дородную чету в окружении многочисленной прислуги. По столь солидному эскорту угадать соотечественников можно было без труда. Вывод подкреплялся прочими немаловажными аргументами: веер с изображением Кремля в руке у барыни, исконно-посконные сарафаны у вившихся вокруг нее дворовых девок и крики «Вот шельмец! Ишь чего вытворяет!», которые генерал, захваченный кульбитами Мюллера, исторгал из луженой глотки.
Анита наклонилась к уху Алекса и негромко спросила:
– Пойдем познакомимся?
Максимов поморщился.
– Тоска зеленая… Этот индюк будет до бесконечности болтать о своих подвигах, а его матрона начнет расписывать, какое у них потрясающее имение под Рязанью и какие бесподобные георгины она выращивает в палисаднике. Тебе этого хочется?
Анита отдавала себе отчет в том, что Алекс, скорее всего, прав, но уж очень тянуло ее посудачить с общительными людьми, пусть даже о георгинах и взятии Эрзерума.
Максимов с неохотой пошел на поводу у жены, приблизился к генеральскому семейству и коротко, без экивоков, представил себя и Аниту. Провинциальные порядки позволяли обойтись без длительных и никому не нужных церемоний.
Насчет общительности новых знакомцев Анита не ошиблась. Генерал, когда узнал, что Максимов – бывший военный, расцвел в улыбке, принялся панибратски хлопать его по плечу и свистящим шепотом травить скабрезные анекдоты из армейской жизни. А госпожа Ольшанская приобняла Аниту и стала доверительно распространяться… нет, не об имении с палисадником, а о сыне Васеньке, который в свои двадцать два дослужился до поручика, участвовал в Бухарском походе и, по всему видать, сделает головокружительную карьеру, почище папенькиной. Это вызывало у Натальи Гавриловны одновременно гордость и материнскую тревогу.
Ольшанские устроились в Констанце роскошно – сняли в престижном районе, в непосредственной близости от моря, двухэтажный особняк в псевдоэллинском стиле, с атлантами и кариатидами. В первый же вечер Аниту и Алекса зазвали на ужин. Отказываться от радушного приглашения было неудобно.
Меню, под стать особняку, состояло из греческих блюд. Смесь запеченных баклажанов со специями, салат из помидоров, сдобренных размоченными сухарями и брынзой, шашлыки-сувлаки, жареные бараньи ребрышки, пахлава с начинкой из орехов – вот далеко не полный перечень снеди, которой был уставлен стол. Генерал особенно налегал на тушеную требуху ягненка, обернутую кишками, и говорил, что, не попробовав этот деликатес, постичь греческую душу невозможно. Ни Анита, ни Алекс к сомнительному яству не притронулись. Максимов мысленно рассудил, что если б у него возникло желание постичь греческую душу, он бы поехал в Грецию.
Единственным негреческим и даже неевропейским лакомством был экзотического вида фрукт, похожий не то на тыкву, не то на дыню с шипами. Наталья Гавриловна отрекомендовала его как африканский огурец. У него и вкус был соответствующий – огуречный, только с бананово-лимонным оттенком.
– Кухарка моя вчера на рынке купила. Дорогущий! – похвасталась госпожа Ольшанская. – Говорят, из Палестины привезли.
Гости, чтобы не обижать хозяев, попробовали по ломтику, не впечатлились и перешли на более традиционные закуски. Генерал подливал Максимову ракию, Аните – красное вино и рокотал без умолку.
– Вы не представляете, каково это – воевать с кавказцами! Азиатчина! Ты против них с открытым забралом, а они тебе нож в спину…
– Я воевал, – скромно заметил Максимов.
– Господа, господа! – засуетилась Наталья Гавриловна. – Давайте не будем о войне. Юрий Антонович меня и так каждый божий день воспоминаниями потчует, а я потом полночи не сплю, за Васеньку переживаю…
– Как хочешь, – покладисто отозвался генерал. – Вчера газеты писали: в Валахии вспышка оспы. Не ровен час и сюда доберется…
Наталья Гавриловна всплеснула надушенными ладошками.
– Да что ж такое! Неужто ни о чем хорошем не потолковать? Смотрите, какая благодать кругом! Солнце, волны, умиротворение… Разве может в эдаком раю найтись место злу? Истинное царство добра!
– Еще как может, – ядовито буркнул Максимов, опорожнив третью чарку ракии. – Не забывайте, что мы с вами здесь в роли колонизаторов. Нас терпят, но это до поры. Помните недавний бунт в Дунайских княжествах? Это первый звонок. Настанет время – выметут метлой, и поминай как звали.
– Господь с вами! – замахал волосатыми ручищами господин Ольшанский. – За что нас выметать? Мы несем на периферию свет цивилизации, дарим народам достижения прогресса. Они на нас молиться должны!
– А по мне, – снова вступила в полемику Наталья Гавриловна, – народы объединяет не прогресс и тем паче не военная сила, а любовь.
– Это вы Овидия вспомнили? – предположила Анита. Она сидела с бокалом вина и брала по одной оливке из фарфоровой розетки.
– Вы читали? – оживилась госпожа Ольшанская. – Я слышала, у него есть волшебные стихи. Но местами он ужасно неприличен! Именно поэтому его не переводят в России.
– Неприличен? Может быть… Но в меткости высказываний ему не откажешь. Моя любимая цитата: «Целомудренна та, которой никто не домогался».
Анита произнесла это с невиннейшим видом и опустила глаза к тарелке с остатками помидорно-сухарного салата. Наталья Гавриловна зарделась, метнула взгляд на супруга, который, причмокивая, обгрызал баранье ребрышко, и ни с того ни с сего накричала на девку, подавшую ей полотенце.
Так закончился этот прием. А наутро выяснилось, что зло на сказочном черноморском побережье властвует точно так же, как и везде.
Пробудившись, Максимов ощутил в теле озноб. Решив, что перекупался накануне в море и подхватил легкую простуду, он не отступил от выработанных годами привычек и приказал служанке Веронике подать кувшин холодной воды для умывания, разоблачившись до пояса. Вероника так и застыла, уставясь на его обнаженный торс.
– Что моргаешь, дура? – рассердился он. – Лей!
– Лексей Петрович! – проблеяла Вероника, тыча пальцем в его грудную клетку. – У вас… там…
Максимов нагнул голову, увидел разбросанные по коже красноватые пупырышки и нахмурился. Увиденное ему не понравилось. На зов Вероники прибежала Анита, уговорила съездить к врачу. В больнице их принял смуглый болгарин, еле-еле изъяснявшийся по-русски. Глянув на сыпь, он взволновался и категорически заявил, что больного необходимо немедля поместить на карантин.
– Это с какой радости? – набычился Алекс.
На что лекарь вымолвил одно-единственное слово:
– Оспа.
Далее разъяснилось, что эпидемия, о которой читал в газетах генерал Ольшанский, распространилась за пределы Валахии, нескольких зараженных выявили и в Констанце. Власти постановили принять жесткие меры к пресечению болезни. Любого, у кого проявятся симптомы, похожие на оспенные, предписывалось как минимум на неделю изолировать от окружающих. Два дюжих брата милосердия с рожами закоренелых колодников взяли Максимова под руки и, несмотря на сопротивление, сволокли на самую дальнюю окраину города. Там стоял длинный дощатый барак, разделенный на два или три десятка тесных комнатенок. В одной из них и заперли больного, замкнув дверь снаружи.
Взбешенный Алекс с полчаса громыхал кулаками и изрыгал матерные проклятия, покуда не утомился. Присев на деревянный лежак, застеленный линялым бельем, он оглядел свою темницу. Пять шагов в длину, три в ширину. Из мебели кроме кровати грубый табурет и помойный бак, который использовался еще и в качестве уборной. Низкий потолок, зарешеченное оконце. В двери проделан лючок для просовывания пищи – совсем как в тюремных камерах. Пол голый, каменный, зимой от него, наверное, веет ледяным холодом. В клетушке стояла духота, воняло нечистотами.
Максимов шатнул дверь, она не поддалась. Он подошел к окошку, выглянул наружу. Ландшафт предстал идиллический: зеленый лужок, окаймленный купами раскидистых лип, за ним пологий холм, с которого сбегал шустрый ручеек. Над всем этим – безмятежная синева неба с кудряшками облаков. Вписать в этот пейзаж парочку влюбленных – и будет полная гармония.
Но сейчас не до лирики. Комната, куда поместили Максимова, была в бараке крайней, то есть из четырех ее стен только одна смыкалась с соседним узилищем, где мог быть заперт кто-то еще.
Алекс с маху саданул каблуком в стену. Сделанная из дуба, она отозвалась глухим гулом. Доски аккуратно пригнаны друг к другу, проконопачены, докричаться будет сложно. Но попробуем.
Максимов сделал глубокий вдох и гаркнул во всю мощь голосовых связок:
– Эй! Есть тут кто?
Из-за стены не донеслось ни звука, зато отворился лючок в двери, и в квадратный проем просунулась физиономия турка с тонкими обвислыми усами. Это был страж карантинного блока.
– Цего орес? – выговорил он сердито. – Орать не велено. Велено молцать.
И скрылся, захлопнув железную заслонку.
Максимов завалился на лежак, пристроил под затылком набитую прелым сеном подушку и задумался. В голове пульсировали обрывки мыслей: «Влип так влип! Хорошо, если Нелли догадается обратиться к наместнику, он меня знает… Хотя наместник далеко, в Бухаресте, двести с гаком верст отсюда. И вообще… вдруг и вправду оспа?»
От безрадостных размышлений его отвлекло едва слышное постукивание. Он привстал, навострил уши. Стучали в ту самую стену, куда он безуспешно долбился полчаса назад.
Его как ветром сдуло с лежака. Он на цыпочках подошел к стене, присел на корточки, прислушался. Сигнал повторился, и теперь в нем отчетливо различалась система: короткие удары, длинные, короткие, длинные. Максимов хлопнул себя по лбу: азбука Морзе! С распространением в мире электрического телеграфа многие образованные люди заинтересовались кодированием слов при помощи точек и тире. Алекс, с его инженерным образованием, знал этот шифр в совершенстве.
Он оглянулся на дверь – заслонка была опущена – и осторожно побарабанил костяшками пальцев, выстроив короткую фразу:
«Кто вы?»
С минуту царила тишина, после чего с той стороны отстукали:
«Алекс, ты балбес. Это мы с Вероникой».
«Вы здесь? – протелеграфировал ошеломленный Максимов. – Вас тоже закрыли?»
Засим последовал диалог следующего содержания:
«Представь себе. Симптомов у нас нет, но поскольку мы были с тобой, эскулапы решили перестраховаться».
«Вот сволочи! Непременно напишу в Бухарест, как только выпустят».
В запале Максимов взялся колотить в стену чересчур сильно, и беседа была прервана все тем же надзирателем. Он лязгнул железкой, заругался:
– Цего стуцис? Стуцать не велено…
– Да пошел ты! – рявкнул Алекс.
Ему надоело сидеть смирно и повиноваться какой-то шантрапе. Шагнув к двери, он скорчил свирепую мину.
– Слышь, ты, чучело! Принеси чего-нибудь поесть, у меня брюхо от голода свело. Или у вас тут пациентам харчи не полагаются?
– Обеда будет церез два цаса, – менторским тоном проскрипел сторож.
– Ну, тогда катись отсюда! А то плюну тебе в харю, к вечеру коростой покроешься.
Максимов демонстративно собрал во рту слюну, и турок ретировался. Не очень ему хотелось подцепить смертоносную заразу.
Анита не лукавила, да и какой был резон? Ее с Вероникой тоже определили на изоляцию – как потенциальных разносчиков инфекции. Каморка им досталась чуть попросторнее, с двумя лежанками и тюфяками. Но до гостиничного номера или на худой конец постоялого двора она ни в коей мере недотягивала. Перспектива провести здесь неделю вгоняла в беспросветную ипохондрию.
Максимов же, сведав, что Анита и Вероника находятся в аршине от него, пусть и за дубовой перегородкой, слегка воспрял духом. Да, он лишился возможности немедленно связаться с представителями метрополии и выразить протест, однако в некоторой степени успокоился. С близкими все в порядке, это главное. Неделю как-нибудь вытерпят, а там – если, тьфу-тьфу, проклятая сыпь сойдет и озноб уляжется, выйдут на волю и уж тогда-то тупицам, учинившим произвол, мало не покажется.
Рассуждая так, Алекс дождался обеда, он получил из рук вертухая жестяную миску с чечевичной похлебкой, кус ржаного хлеба и кружку с водой, слабо разбавленной вином, и устроился на табурете напротив окна. Зачерпнул ложкой баланду, попробовал. М-да, не только обстановка тюремная, но и кормят, как арестантов в остроге – паршивее не придумаешь. После лукуллова пира у Ольшанских – совсем гадко.
Чтобы отвлечься от вкусовых качеств больничной бурды, он стал смотреть в оконце и обратил внимание на то, что девственный прежде пейзаж преобразился. На лужок из липовой рощицы вышла девушка, одетая в национальном румынском стиле: свободная рубаха с длинными узорчатыми рукавами, алая шерстяная юбка, по сути, просто отрез полотна, обернутый вокруг бедер, на голове – венок из ромашек. Волосы у молодки были заплетены в две косы, по обычаю здешних незамужних девиц, а обувь отсутствовала. К сожалению, расстояние не позволяло Максимову разглядеть черты ее лица, но он почему-то не сомневался, что они прекрасны. Девушка вела за собой прелестную козочку, как Эсмеральда из романа Гюго. Ни дать ни взять античные буколики! Овидий с Вергилием остались бы довольны.
Максимов прикипел взглядом к незнакомке и уже механически хлебал невкусный суп, заедая его черствой горбушкой. Он как будто перенесся в театр, ему не мешали ни прутья в окне, ни спертый воздух, ни убогость окружавшей обстановки.
Пастушка отпустила козочку, и та побрела к холму, меланхолично пощипывая травку. Солнце уже спускалось к горизонту, день клонился к вечеру, но Максимов знал наверняка, что там, вне закупоренной со всех боков деревянной коробки, холода не чувствуется. Красавица села посреди изумрудных стеблей, выставила из-под юбки сахарного цвета ножку и устремила взор в направлении высокого каштана, росшего справа от холма. Она кого-то ждала.
– Законцил, нет?
Противное кряканье надсмотрщика отвлекло Алекса от созерцания благолепной картины. Он недобро зыркнул на дверь, просунул в лючок кружку с миской и вновь уселся на табурет. Заслонка не упала, турок с любопытством пропихнул крючковатый нос в отверстие.
– Цего смотрис? Сто там?
Максимов стянул с лежака подушку, тщательно потер ею об себя и запустил в ненавистное рыло. Подействовало: турок молниеносно убрался, клацнула стальная пластина.
Пастушка на лугу проявляла признаки нетерпения, поглядывая на каштан, потом встала, обошла его вокруг, погладила пасшуюся козочку. Максимов и сочувствовал бедняжке, и втайне опасался, что явится какой-нибудь деревенский мужлан, облапит ее, начнет по-медвежьи тискать, внеся диссонанс в изысканный спектакль.
Тук-тук-тук! Вот и диссонанс, только не зрительный, а слуховой. Анита, задетая долгим молчанием супруга, напомнила о себе.
«Не спишь? Чем занят?»
Алекс задергался, словно она поймала его на чем-то постыдном. Хотя что тут постыдного? Томится человек в неволе и скрашивает свое жалкое существование единственным доступным ему способом – обозревает мир через зарешеченный глазок. И не виноват он, что в этот мир вписалась неведомая фея со своей домашней живностью.
«Лежу, хандрю. Думаю о тебе», – отстучал он, помедлив.
Анита не относилась к породе ревнивых сумасбродок и вряд ли стала бы впадать в ярость из-за того, что болящий, измученный сплином муж позволил себе засмотреться на бедную селянку. Но что-то помешало Алексу поделиться впечатлениями от увиденного. Сейчас все на взводе, никто не предскажет реакцию…
Они поперестукивались еще немного. Анита беспокоилась, как он там, как его самочувствие. Пес бы с ним, с карантином, лишь бы болезнь не усугубилась. Максимов отвечал лаконически: ничего не болит, знобит уже меньше, краснота спадает. Чуть погодя он сослался на усталость, Анита пожелала ему спокойной ночи и умолкла.
Он поспешно вернулся к окну, в последних отсветах зари успев увидеть, как пастушка с низко опущенной головой грустно бредет прочь и уводит козу. Если и затевалось у нее свидание с пылким поклонником, то сегодня оно сорвалось. Как принято у героинь любовных элегий, она ушла в закат, растаяла в розовой пене.
Светильников в бараке не предполагалось. В амбразуру проникла тьма, заполнила все миниатюрное пространство. Настала ночь. Максимов долго не мог уснуть. Виною тому отчасти были бегавшие по полу тараканы, бугристый лежак, колкое сено, лезшее сквозь наволочку, и прочие неудобства, но, чего греха таить, хуже тараканов одолевали мысли. Он задавался вопросами: кто эта прелестница? кого она ждала? отчего ушла в такой печали?
Кабы не вынужденное затворничество, не терзался бы он тем, что впрямую его не касалось. Какая-то крестьянка, которую он видит впервые и даже имени не знает… Какое ему до нее дело? Тем не менее ум, обреченный на праздность, искал любого занятия, пускай самого чепухового и не имеющего практической пользы. В итоге беспочвенное гадание вылилось в бессонницу, сменившуюся под утро липкой и тяжелой дремой, какая бывает у перебравших пьянчуг.
Проснулся Алекс с головной болью, рассерженный на себя. Далась ему эта деваха! В каждом хуторе – что румынском, что русском – таких пруд пруди. Думать надо не о ней, а о собственном будущем и о тех, кто по-настоящему дорог. Поэтому, едва поднявшись с лежака, он простучал Аните в стену:
«Как ты, любимая? Уже встала?»
«Встаю, – отозвалась она. – Вероника выпросила у Рахима горячей воды, сейчас будем умываться».
Рахим? У пугала с усами, оказывается, есть имя.
«Вы с ним подружились?»
«Познакомились. Раз уж очутился в аду, с чертями лучше поддерживать хорошие отношения».
«И что вы еще у него выпросили?»
«Так, мелочь. Запасную простыню, полотенце побольше, восковую свечку, чтобы не было темно, и два гвоздя».
«Гвозди-то зачем?»
«Вероника вбила их башмаком в дверной косяк, и теперь можно вешать одежду, чтобы ночью не мялась».
Алекс вздохнул. Какая чепуха заботит женщин! Уж он бы вытребовал что-нибудь посущественнее: рюмку старки, бифштекс из ближайшего трактира, колоду карт, чтобы за пасьянсом скоротать срок заключения.
Но дружба с соглядатаем не завязывалась ни в какую. Когда тот просунул в келью тарелку с завтраком (овсяная каша-размазня, безнадежно остывшая и комковатая), Алекс вместо приветствия и благодарности приложил его соленым словцом. Что поделать? Не поворачивался язык любезничать с тюремщиком.
День тянулся бесконечно долго. Максимов ходил из угла в угол, выстукивал Аните нежные послания, отчего к полудню пальцы распухли, и пришлось сделать паузу в общении.
А после обеда из рощицы, как мифическая дриада, появилась она – вчерашняя пастушка. На ней было то же облачение, а позади шла коза, позвякивая бубенчиком на шее. Узрев неразлучную парочку, Максимов позабыл обо всем на свете. Он вновь устроился на табурете, точно зритель в ложе, и, подперев рукой небритый подбородок, стал смотреть.
Первые часа полтора не происходило ничего. Девица сидела на траве, плела из стебельков подобие корзинки и заметно кручинилась. Но внезапно из-за каштана выступил статный молодец, одетый в широкие холщовые штаны и безрукавку, перетянутую на гуцульский манер кожаным поясом со множеством кармашков.
Это был, несомненно, тот, кого она ждала весь предыдущий день. Завидев его, девица вскочила и стремглав прыгнула к нему в объятия. Максимов отвел глаза. Ему подумалось, что неприлично подсматривать за интимным действом. Однако любопытство пересилило, и он опять глянул в окошко. Влюбленные целовались, стоя у подножия холма. Поцелуи были жаркими, что свидетельствовало о неподдельной страсти. Увлекшийся кавалер сбил со своей дамы венок, распушил волосы, отчего она сделалась еще соблазнительнее, и потянул кверху край ее рубахи. Пастушка перехватила его руку и мотнула головой в сторону барака. Кровь прилила к щекам Максимова, ему показалось, что его рассекретили. Но в следующую секунду он уверил себя, что на таком отдалении пара могла видеть только стену с бликующим на солнце стеклянным оком, и ничего больше.
Влюбленные посовещались, после чего парень в безрукавке, как пушинку, поднял свою пассию на руки и унес в рощицу, подальше от чужих глаз. В следующий час покой нарушали только меканье козы и звон колокольчика.
Максимов сидел, задумавшись. Он вспоминал раннюю молодость, знакомство с Анитой, безмятежные прогулки под сенью псковских лесов в родительской усадьбе. Тогда и он был столь же горяч, как этот парубок, одержим душевным и плотским влечением, – голова кружилась, а сердце пело. Славные были деньки! Годы брака утихомирили его, сделали хладнокровнее и, наверно, черствее. Но это неправильно! Любовь не должна превращаться в привычку, рутину, обыденность, иначе грош ей цена. Угасшее чувство сродни пеплу, который рассеивается от малейшего дуновения.
Копошившиеся в голове думы растревожили Алекса. Он подошел к стене, хотел простучать Аните, что любит ее по-прежнему, но не стал. А ну как она заинтересуется, с чего ему вздумалось касаться сокровенных тем в не самый подходящий момент? Уж лучше поговорить об этом позже – когда можно будет заглянуть в ее бархатные глаза, дотронуться, подхватить на руки и унести в липовую… или какая подвернется… рощу, а далее все сложится само собой. И не нужно лишних слов.
Приятные грезы привели Алекса в более-менее сносное расположение духа. А тут и те двое вышли на луг, немного растрепанные, но счастливые. Вот и замечательно, подумал Максимов. У людей свое счастье, а у меня свое.
Больше в этот вечер в окно не глядел.
Минуло еще три дня. Он мало-помалу обживался в своем застенке: лежак уже не казался таким жестким, а приносимая Рахимом еда – несъедобной. Вдохновляло то, что до освобождения оставалось всего трое суток. Максимов не сомневался, что освобождение настанет. Сыпь постепенно сходила, он чувствовал себя здоровым и полным сил. Один раз к нему заходил врач-болгарин, тот самый, что упек его сюда. Алекс едва сдержался, чтобы не свернуть поганцу челюсть. Коновал предвидел это, посему привел в качестве телохранителей двух жандармов с саблями наголо.
– Вы же видите, нет у меня оспы! – доказывал Алекс, задрав сорочку.
– Сие не есть факт, – философски парировал доктор и присовокупил: – След седмица ще видим.
Максимов считал уже не дни, а часы до истечения треклятой седмицы, а покамест продолжал свои наблюдения за Адонисом и Афродитой (так он прозвал их про себя). Что, скажите на милость, еще делать в затворе? Он утешал себя заверениями, что нет в этих подглядках ничего крамольного. Голубки на лугу только ворковали и иногда обменивались поцелуями. Для иных упражнений они предусмотрительно удалялись под защиту деревьев.