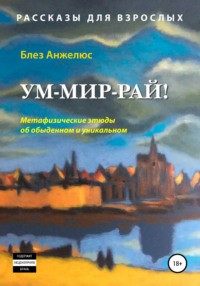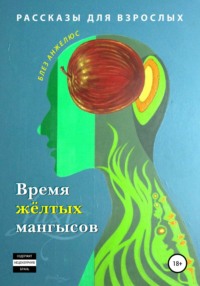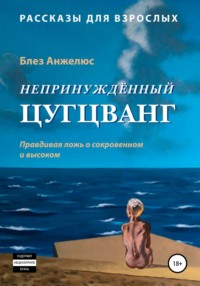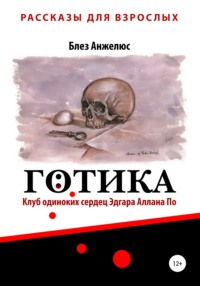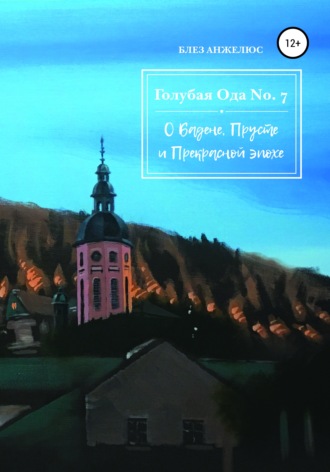 полная версия
полная версияГолубая ода №7
Он был уверен, что в эту короткую ночь ему приснилась собственная смерть, и может так статься, что не только ему одному:
«Если Вам случалось уже умирать, то Вы не можете не узнать первый населенный пункт отделяющий мир живых от мира мертвых – это Порк-вилль, достаточно мрачное и угрюмое место, расположенное в скалистых отрогах Северных Вогезов. Вы всякий раз оказываетесь там после смерти в ожидании дальнейшего путешествия.
Унылые каменные строения, врезанные в массивную плоть гнейсовых пород, внешне напоминают собой надгробные плиты. Впрочем, это и есть надгробные плиты, декорированные разнообразными барельефами и испещренные полустертыми надписями на непонятных языках и забытых и мертвых наречиях.
Это место всегда лишено какого-либо присутствия живых существ, хотя у свежеумершего всякий раз возникает такое ощущения, что со всех сторон, из всех каменных окон, проемов дверей и стрельчатых арок, на него обращены сотни жадных и недружелюбных взглядов.
Возможно, это бестелесные духи, еще не нашедшие покоя или определения своей дальнейшей участи, а может быть просто плод подсознательного воображения вновь умершего индивида, ещё не привыкшего к странным метафизическим фокусам своего сверх-Я.
Пластика изображений и сохранившиеся рельефы надгробий свидетельствуют о культуре куда более ранней, чем христианская, несмотря на то что в некоторых элементах каменной резьбы можно распознать символ чаши, рыбы и полевой лилии.
Крайне редко вновь прибывший в поселение может встретить среди пустых и мрачных строений двух пожилых женщин, одетых в черные цистерцианские одежды путешествующих монахинь. Одна из женщин объясняет неофиту о том, что это место проклято и те, кто здесь когда-то проживал, покинули этот негостеприимный мир навсегда, унося с собой нестираемые никогда воспоминания о Порк-виле.
Иногда, как причина исхода обитателей упоминается бубонная чума, поразившая целиком население, реже – странная война, уничтожившая полностью жителей селения, но сохранившая в целостности и неприкосновенности все строения и инвентарь.
Впрочем, обе эти версии довольно сомнительны: вероятно, что ответ на этот вопрос кроется в термодинамическом феномене такого явления, как смерть, до сих пор никоим образом не изученном современной наукой человечества.
Необходимо еще сказать о том, что ландшафт этого странного поселения напоминает чем-то массивное каменное сооружение на картине Арнольда Бёклина «Остров мёртвых»: среди строений Порк-виля также произрастают высокие кипарисы и сюда никогда не проникает солнечный свет.
Заброшенный фантастический пейзаж всегда сияет неестественным мятным и призрачным светом мистического и сводящего с ума полнолуния.
Всматриваясь сквозь необычный, какой-то полупрозрачный полумрак местного ландшафта, можно различить среди бугров в высоких цветах и травах одинокую, всю дико заросшую цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающуюся кирпичную часовню неясного эклектического архитектурного стиля: дотошные в деталях знатоки ритуальных сооружений смогли бы обнаружить в данной постройке как элементы древнекоптских святилищ, так и фрагменты полуистертых настенных барельефов и протороманских колонн, украшающих знаменитые архитектурные шедевры романских церквей в Везле и Шовиньи или резную каменную вязь церковных сооружений христианского зодчества в своем апогее, до сих пор доступного для лицезрения живыми в аббатстве Сен-Дени в предместье Парижа или в мистической Нотр-Дам-су-Тер на острове Мон-Сен-Мишель в Нормандии.
Купол часовни уже давно просел и стал руиной, а на том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикомор, сакральное и неприкосновенное растение древних египтян.
В волнах густой заросшей травы и кустов репейника рядом с часовней можно разглядеть остовы каменных надгробий с замысловатым растительным орнаментом и ангелоподобными существами с отломанными крыльями.
Кто-то из вновь прибывших даже способен иногда разглядеть в данных изображениях сцены распятия и символы суетности кратковременной земной жизни: игральные кости, карты, кубок с вином, человеческий череп.
Многие не верят в существование данного места, считая многочисленные свидетельства о нём художественным вымыслом и неумелой попыткой произвести сенсацию среди широких масс за счет апологии реального существования иной жизни за чертой гроба.
Подтвердить же или опровергнуть реальность Порк-виля не представляется возможным в этом мире, для этого существует лишь одно радикальное средство – индивидуальная смерть».
Смерть пугала его даже во сне, может не она сама, а мысли о ней, которые являлись к нему спонтанно. Но голос, идущий из глубины, всё время повторял «Ты умрешь вовремя, у каждой вещи – своё время, ни раньше, ни позже, ровно в срок. Природа не плодит сущности без надобности».
Человек, как никакое другое существо, склонен к фантазиям, обобщениям и мечтам. Он представляет себе свою смерть, её обстоятельства и даже запахи, сопутствующие этому. Он посвящает смерти стихи и бравурные оды, подобно Вийону смеётся ей в лицо, или, как Бодлер, препарирует её.
Некоторые из смертных, например, Эдгар По упивались ею, почти захлёбываясь, кто-то предвосхищает её появление через силу своих непреодолимых желаний, погружая в её вечные и холодные воды своих натурщиц: нечто подобное имело место быть с английским живописцем Джоном Эвереттом Милле, автором знаменитой «Офелии».
В очередной раз, беззаботно гуляя по аллее Лихтенталер и наслаждаясь цветочным ароматом весны, он увидел странный объект современного искусства – большой биллборд с изображением купающихся людей и надписью NATURE RUINS EVERYTHING.
Эта надпись показалась ему пророческой, что в общем-то и подтвердилось в течении последующего времени.
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis-
«И слово стало плотью, и обитало с нами».
В начале было Слово.
Оно же будет и в конце. Сияющее, непобедимое и одинокое.
И снова, о камне, о листе, о не найденной двери… взгляни на дом свой, ангел!
Мысли – это единственная приватная сфера, куда никак не могло запустить свои руки государство, чтобы полностью взять под контроль жизнь и смерть своих граждан.
Но эта идиллия не могла продолжаться бесконечно и вскоре после прихода к власти императора Накрона III, незадолго до начала Франко-прусской войны, население принудительно стали подвергать процедуре виртуального чипирования.
В зрачок вживляли некий нанообъект размером с микрон и мировосприятие любого человека менялось под тот формат, который был необходим в данный исторический момент государству.
В противном случае гражданину приходилось покидать этот мир не по своей воле, благо технологии такого «ухода» были уже давно отработаны: задолго до этих событий германские фармо-технологические концерны, например, ИГ-Фарбиндустри или Теммлер Верке, успешно подготовили почву для планомерного внедрения своих разработок, сначала в военной сфере, а затем, и в гражданской.
Немцы поделились этим сперва с русскими, как более близкими и важными для них промышленными и военными партнёрами, а затем уже, и с англо-галлами.
У Германтов
Он вспомнил один причудливый эпизод из своего далёкого детства.
Однажды, давным-давно, ещё будучи ребёнком, он посетил музей восковых фигур в Мюнхене, и среди прочего, его поразила фигура одного неприметного персонажа, одетого словно ефрейтор Первой мировой во френч расцветки фельдграу.
Странно, что этот невзрачный господин со смешными чаплинскими усиками стал одной из самых противоречивых и самых несмешных фигур новейшей истории.
Рождённый в странном неравном браке, на границе двух государств, в маленьком городке на реке Инн, непризнанный замшенными венскими академиками как художник, он состоялся, будучи в Мюнхене, как пламенный оратор и харизматичный лидер одной небольшой и молодой рабочей партии, спешно организованной в основном из фронтовиков, повидавших многое в окопах Первой мировой.
Как будто само время было подготовлено для него, для тех деяний, которые ему предстояло совершить, перевернув всю Европу, да и весь мир, с ног на голову.
Конечно, глядя на этот «чаплинский вид», сложно сопоставить его и со стремительным танковым формаршем на Париж в мае тысяча девятьсот сорокового года и со странной воздушной войной, которую он вёл с Альбионом, но тем не менее, это всё свидетельствует о серьёзности его намерений в плане изменения всех мировых отношений в пользу Германии.
Непросто говорить о том, что уже произошло, о том, на что мы уже никак не можем повлиять, и что не можем ни в коей мере изменить.
Ах, время, трепетная лань, в когтях тигриных застыл человек и с тревогой смотрит в глаза своей судьбы.
Сложно оставаться в стороне, когда история уже продумана до финала, в котором она принимает самый что ни на есть скверный оборот.
«Смешной» человек с несмешной судьбой хорошо знал историю и прекрасно знал, как она заканчивается.
Он не боялся смотреть правде в глаза, он говорил на одном языке с теми, кто хотел его слушать и слышать, что часто не всегда одно и то же.
Слишком хорошо и слишком давно они друг друга знали. Слишком многое их связывало.
В эти минуты ему не надо было лукавить, ему нечего было скрывать и не от кого таиться, он стал добычей, словно рябчик в силках своих собственных деяний.
Слишком многое их связывало, чтобы он скрывал от них свои мысли.
Война проиграна, он это знал. Она не просто проиграна, Европа разгромлена.
Но можете ли Вы себе представить, что будет завтра?
Несчастная Германия, её обвинят во всех смертных грехах.
Немецкий народ сделают виновником всего.
Весна тысяча девятьсот сорок четвёртого года. Баварские Альпы. Плотная пелена молочного тумана застилает живописную долину Берхтесгадена.
Словно чёрная вершина айсберга высится средь белых облаков строгим монолитом резиденция «Бергхоф».
Если закрыть глаза и вслушаться в туманные предгорья и долины, то возможно расслышать негромкие и робкие звуки вагнеровских лейтмотивов.
Это голоса Парсифаля и Тангейзера.
В глубине каминного зала – несколько человек: он, напротив – Генрих Гейм, и человек в тёмной одежде, с невзрачным лицом лютеранского пастора.
Гейм всё время что-то пишет, еле поспевая за его словами, человек с невзрачным лицом, погружённым в тень, отвернулся в сторону и внимательно разглядывает гипсовую фигуру плотно сбитой германской женщины, символизирующей плодородие.
Их разговор неприятен для обоих, но он уже не может просто прекратить его, не поставив свою точку в этом фарсе:
– Сколько дивизий СС находится в моём распоряжении?
– Не имею понятия.
– Шесть. И ни один из этих солдат не ходит в церковь. А куда они идут, Вы знаете?
– На смерть!
Собеседник всё делает безнадёжные попытки о чём-то попросить:
– Я всё рассказываю, всё прошу Вас о чём-то, будто Вы Христос…
– Не надо у него ничего просить. Он умер и ничего Вам не даст.
Печаль человеческая многосложна. Удел человека прост и предсказуем.
Он отстранённо смотрит куда-то вперёд, прямо перед собой.
Он знает, как всё это будет.
Немецкий народ сделают виновником всего.
Напишут тысячи книг, найдут тысячи каких-нибудь нелепых документов, придумают сотни воспоминаний.
И они все, он и Германия, предстанут перед миром как беспримерные изверги рода человеческого, как исчадия ада.
А они просто нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа.
Они сказали: раз вы об этом думаете, давайте наконец сделаем это!
Это как хирургическая операция, сперва больно, но потом организм выздоравливает.
Разве они не осуществили потаенную мечту каждого европейского обывателя?
Разве не в этом была причина всех их побед?
Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, он от лица их объявил ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу.
Они всегда не любили евреев.
Всю жизнь они боялись эту мрачную угрюмую страну на востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, Россию.
Он же сказал: просто давайте решим эти две проблемы, решим их раз и навсегда. Разве мы придумали что-то новое? Нет.
Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности – вот и все.
С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, пока существует холод и жара, бури и солнечный свет – до тех пор будет существовать и борьба, в том числе, среди людей и народов.
Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть лишь благодаря борьбе.
Война – естественное обыденное дело.
Война идет всегда и повсюду.
У нее нет начала, нет конца.
Война – это сама жизнь. Krieg ist das Leben selbst.
Война – это отправная точка. Krieg ist der Ursprungszeitpunkt. [8]
Мир стал предсказуемым, управляемым и примитивным, как механизм первых швейцарских часов.
Именно поэтому его мысли и записи стали хаотичными и путанными словно дорожки некоего лабиринта, чтобы среди тысяч не важных и абсолютно пустых деталей, мозг, подобный ему, смог бы выявить тот единственный смысл, который и был изначально заложен в основу повествования, и хитроумно спрятан среди невероятного количества дискурсных ловушек, отвлекающих от света истины, изначально и всегда существующей для избранных и подготовленных.
Он назвал этот принцип потоком сознания, подобно речению пророков древности или письмам первых катакомбных христиан начала новой эры – «И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану!».
Он сидел на траве, в тени высокого кипариса, опершись спиной о шершавую и потрескавшуюся стену старой готической часовни, на городском кладбище провинциального Римини.
Над ним сияло голубое и чистое италийское небо с редкими белоснежными облаками, в которое устремлялись словно зелёные ракеты стройные и ароматные пинии.
Пахло хвоей, античной грустью и морем.
Сквозь десятки каменных надгробий он смотрел на окружающий его мир: смешной, страшный и снова, в очередной раз, незнакомый.
Перед его глазами плыл ему навстречу огромный медный корабль с лаконичной надписью на борту «Fellini», и этот вид и аромат кипарисов и моря напомнил ему опять и об этом городе и о тех временах, давно уже канувших в Лету и почти удалённых из его памяти, словно карандашный набросок, стёртый школьным ластиком из учебной тетрадки:
8 ½ – Отто э меццо
«Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
И. Бродский, "Марциалу"
Сентябрьский погожий день.
Теплое осеннее солнце проливает золото своих лучей сквозь благоуханную листву огромных царственных платанов в прибрежном парке Федерико Феллини.
Помпезная громада Гранд-отеля печально глядит на безлюдный пляж, погруженный в сладкую утреннюю дрему. Центр Римини напротив оживлен и полон бесконечного людского щебетанья. Рыбный рынок похож на беспокойный стеклянный муравейник. Прилавки торговцев как аквариумы полны причудливых существ из морей и океанов: блестящие бранзино и кефаль, плоские камбала и морской язык, гигантские тунец и рыба-меч; бесчисленное количество морского гребешка Святого Якова, устриц, мидий, венерок, а также, лангустино, крабов, омаров и иных неизвестных панцеро- и ракообразных.
Это не просто некие дары моря, а скорее ожившие строфы старика Бродского, наделившего свои венецианские канцоны рыбной морфологией:
Так сужается улица,
Вьющаяся как угорь,
И площадь – как камбала…
Беспокойные дети щенятся к суровым взрослым, озадаченным экономическими подсчетами и тревожным прогнозом на будущее. Чашка кофе дымится на стойке бара. Играет тихий джаз. Девица с лицом Орнеллы Мути смакует Campari, одновременно печатая на панели iPhone бесконечные смс.
Небо сгущается цветом кобальта, приобретая грозный вид театральных кулис. Собаки поджимают хвосты и тихо скулят. Запахи из булочной становятся интенсивней.
Он допивает свой кофе и направляется в книжную лавку. Вместо путеводителя по феллиниевским местам в Римини (которого, впрочем, нет в наличии), он покупает двуязычный сборник поэзии Бродского из серии Biblioteca Adelphi.
Дверь распахнутая, пыльное оконце. Магазины и кофейни. Стул покинутый, оставленное ложе. Привкус одиночества и ускользающего времени. Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Ощущение, что незримо с нами присутствует некая параллельная жизнь. Человек в красном шарфе, стремительно пробежавший возле заброшенного кинотеатра Fulgor, это часом не Феллини?
Моросит.
Каменная мостовая становится похожей на рыбью чешую. Беспокойные туристы, несмотря на непогоду, носятся по Пьяцца Кавур в поисках интересного и сенсаций.
Корсо Августа в этот час необычайно оживлена. В храме Малатесты ценители религиозной живописи эпохи кватроченто разглядывают завороженно истертую фреску Пьеро делла Франческа и несуществующий шедевр Джотто (вторая ниша справа от входа, так говорится в путеводителе, попробуй найди!).
Каждый путешественник знает этот расклад: смесь любопытства, усталости и тревоги.
В кофейне возле закрытого ныне кинотеатра Fulgor, где когда-то молодой Феллини рисовал свои шаржи на кинозвезд, за столиком – двое.
Один из них – постарше, седовлас и элегантен. На шее – роскошное рубиновое кашне, в цвет подкладки императорской тоги. Второй -вылитый Гвидо Мастроянни.
Слишком яркие образы созданы маэстро и оттого наступает неизбежная путаница между реальностью и его бессмертными фантазиями.
Снова аромат кофе. Щебетание итальянских птиц. И самих итальянцев. Запах моря. Понт шумит за черной изгородью пиний. Человек с лицом Мастроянни лакомится тирамису. Белые паруса на линии горизонта. Осеннее теплое море. Прибрежные волны смывают человеческие следы на песке. Чайки, белые как паруса. Пустые створки мидий и вонголе. Грозди зеленых водорослей. Скоротечность прожитого и вечные вопросы.
Над городским некрополем в небо рвутся высокие кипарисы. Тишина и пение птиц. Нос большого корабля из красной меди навис над тем, что когда-то именовалось Феллини. Звучало как фильм. Выглядело как бесконечная буффонада. Ощущалось как непрекращающийся ни на миг праздник жизни.
Может быть, маэстро умер.
Но корабль всё плывет и плывёт…».
Он тихо ускользал из объятий этого живого и ненасытного в своих желаниях мира, словно нежный и лёгкий цвет сакуры, доверившись судьбе, он кружился в потоках ветра, летящего с высоких гор.
Вечерело и над землёй стелился влажный молочный туман, где-то в яблоневом саду раздавалось пение беспокойных цикад, разбуженных светом мятной луны.
Он сделал глубокий вдох, без напряжения и без боли, как будто болезнь отошла, отступила на время.
Время утекает.
Безвозвратно пролетают дни, словно вода струится сквозь пальцы, оставляя после себя лишь тень воспоминаний и горьковатый привкус сентиментальных чувств о прошедшем.
На ум пришли давно забытые строки Шатобриана о том, что надо тотчас уезжать из красивых мест, чтоб красота не приелась и берега не поблекли.
Возможно, это было похоже на побег. От самого себя?
Что мог он взять с собой?
Что должен был оставить здесь?
Причудливую и удивительно сентиментальную музыку Вентейля?
Засушенную розу Бернарда Морланского или недопитый бокал ароматного сансера?
Чайную чашку из тонкого севрского фарфора с изображением глубоких синих ирисов?
Утерянное время, в поиски которого он ринулся, словно мальчишка, без оглядки ныряющий в глубокие воды Вивоны?
На кофейном столике лежала раскрытая на середине книга «Avalon landing» Уильяма Форрестера (в память о его дорогом и горячо любимом малыше Альфреде Агостинелли, так глупо погибшем во время полёта над Средиземным морем в конце мая тысяча девятьсот четырнадцатого года), рядом – недочитанное письмо его знакомого, коллекционера Сванна, и связка старых ключей от приходской часовни Сен Жермен де Блуа, с мольберта глядел на него с надеждой незавершенный пейзаж позднего Вермеера.
Они, немые свидетели его побега из этих мест, лишенных имени и каких бы то ни было надежд на времена более счастливые и беззаботные, молча отстранялись от него, как провожающие на вокзальном перроне покидают опустевшую станцию, тоскливо оглядываясь в сторону уходящего поезда.
Он вспомнил о своём кратковременном увлечении Одеттой.
«Не заедете ли Вы ко мне как-нибудь на чашку чая?».
Он сослался на начатую работу, книгу о Вермеере Дельфтском, на самом деле заброшенную уже несколько лет назад.
«Вы будете надо мной смеяться, но я никогда не слыхала о таком художнике, из-за которого Вы не можете со мной видеться (она имела в виду Вермеера); он ещё жив? Его картины можно увидеть в Париже?
Он любил её наивную и почти детскую непосредственность.
Он проснулся среди ночи, на часах застыло три сорок пять утра, за окном накрапывал мелкий дождик, так и не смогший заснуть в эту ночь, впрочем, такую же ночь, что и все остальные, но, что-то в ней было всё же необычное.
Он вылез из-под одеяла, сонный, ещё слегка плененный гипнотическим дурманом, промелькнувших за весьма короткую для него ночь, снов. Шатаясь, он пошёл на кухню и завёл Вагнера, боже праведный, это была увертюра к «Тристану и Изольде», божественная и сверхчеловеческая музыка, способная из любого ассоциального подонка, гниющего в пригороде промышленного Мюлуза или Чеппинг-Хемпдена, сотворить второго, полного воли и представления, Шопенгауэра или Ницше, истекающего своей болью и своим креативным безумием по этому пропащему от безысходности миру на страницах нового «Рождение трагедии из духа музыки».
Вагнер почти всегда приводил его в состояние эйфории, ему захотелось выпить и, не найдя ничего иного, кроме красного итальянского из Тосканы, он наполнил свой бокал до краев.
Он закрыл глаза и сделал большой глоток вина, наслаждаясь ярким и свежим вкусом санджовезе, взрощенным заботливыми руками неизвестных итальянских виноделов, имена которых он никогда не узнает и вряд ли ему это нужно, ведь, как однажды заметил породистый циник Бернард Шоу «кровь не стоит ничего, а вино стоит денег», впрочем, всё это не так уж и важно, забавно, что сделав глоток тосканского, он как-будто угловым зрением стал лицезреть какой-то ужин, скромный и, в то же время, полный такой значительности и смысла, что будь у него на голове чёрная треуголка, он бы тут же её снял, соблюдая приличия.
Это было что-то библейское, вроде последнего ужина Иешуа со своими последователями, который закончится вот-вот. Он был так тронут этой элегической сценой, что слёзы тут же хлынули бы навзрыд из его воспалённых глазниц, но бодрая мелодия «Тангейзера», ворвавшаяся в это фантастическое пространство простым и лаконичным лейтмотивом, вернуло его к привычно циничной, и полной критического отношения ко всему и всем, жизни.
После недолгого «штиля» его память опять пришла в движение, он почему-то вспомнил такую незначительную деталь, как названия ресторанов во Франции: почти в каждом городке или другом населенном пункте почему-то существовал хотя бы один ресторан-трактир с названием «La Couronne». Видимо, на это были свои причины, ему неведомые и непонятные.
С «короной» были связаны его воспоминания из нового времени: вирус появился не внезапно, он как будто существовал всегда, но активность проявил накануне Рождества.
Первая вспышка нового вируса появилась в Поднебесной, затем эпидемия распространилась через Византию, Фивы, Александрию, далее поглотив собой Геную, Медиоланум, Париж, Барселону, Аргенторат и другие города Старого света.
Количество умерших было не столь уж и высоко, но вот уровень паники достигал предельных высот, раздутый с помощью средств масс медиа и увеличенный во сто крат общественным психозом.
Настроения преобладали в основном пессимистичные, складывалось такое представление, что не сегодня-завтра в полупустые города, погружённые в тишину и забвение, ворвутся безжалостные варварские массы диких гуннов и вестготов, которые уничтожат очаги современной цивилизации подобно великому и славному Риму или Карфагенам, казалось бы, когда-то вечным и бессмертным.
Толпы вандалов, ещё вчера носивших маски цивилизованных субъектов, врывались в торговые центры, супермаркеты, рыночные площади и подчистую выносили всё, что попадалось перед их алчущими и бешеными очами: канкальские и остендские устрицы, фунты экзотической куркумы и экстракт мандрагоры, связки сушенных летучих мышей, вина из Лангедока и Лагроньо, ароматные снопы пшеницы и гречихи, маринованные в шабли тушки фазанов и запечённых каплунов, литры прованского масла, цветы цуккини из Венето, крымские помидоры и свежий берлук, вяленую баккала и, даже такое непонятное лакомство, как сорбет из лайма и дуриана.