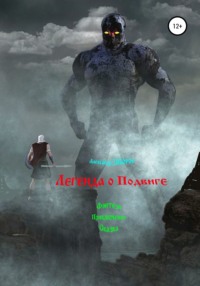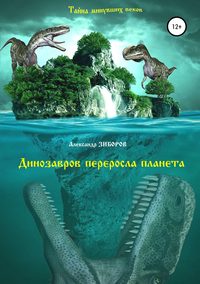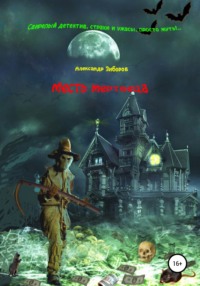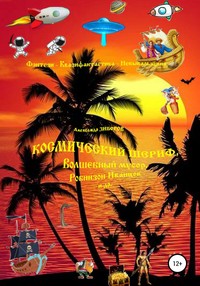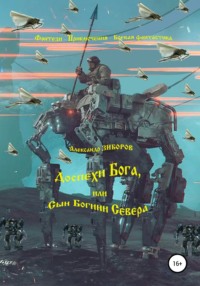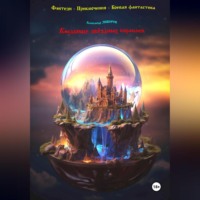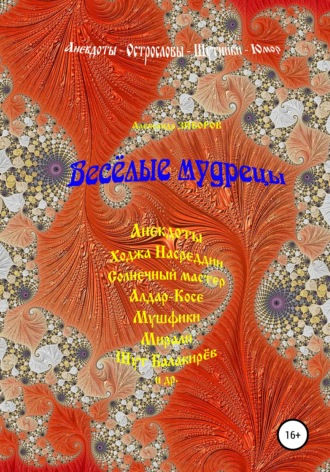 полная версия
полная версияВесёлые мудрецы
Возвращаюсь к интригующему вопросу: почему Алдар-Косе не имел бороды?
Одну догадку, выдвинутую писателем Борисом Приваловым, вы уже знаете.
Мне подумалось, а что, ежели безбородость Алдар-Косе совсем в ином, ведь он вполне мог быть… женщиной, переодетой в мужчину. Но настаивать на своей догадке не буду, хотя она имеет под собой основания быть верной не меньше, чем все остальные предположения, догадки, гипотезы.
Между тем, разные народы мира испокон веков верят, что обманщиков, мошенников и пройдох бог как-то особо выделяет, дабы люди знали, с кем имеют дело, и остерегались. Скажем, у русских имеется грубоватая пословица: «Бог шельму метит». Возможно, отсутствие бороды у Алдар-Косе – особая божья «метка».
Подобные герои, чем-то «отмеченных (богом или природой?), есть и у других народов. Турки любят рассказывать весёлые истории и анекдоты о Кель-Оглы, что в буквально переводе означает «плешивый парень». В таджикском народном эпосе имеется смышлёный паренёк Куса (в переводе – «безбородый») и Каль (правильнее писать Кал, в таджикском языке нет мягкого знака, а это слово означает «плешивый»). У армян, а вернее – у арцахов (нагорный Карабах) имеется острослов и весельчак Пыл-Пуги, что переводится как «сумасшедший Пуги».
Нужно признать, что, несмотря на все «отметины», народ относится к этим героям с искренним уважением. Ведь все они – Алдар-Косе и Кель-Оглы, Куса, Каль (Кал) – представители простых людей, низшего слоя общества. Они для народа – свои. А их противники относятся к власть имущим. Ум, сметка, хитрость во все времена являются единственным оружием бедняков против произвола и беззакония. Образ Алдар-Косе списан именно с таких народных героев. Потому-то он столько веков остаётся любимцем простых людей и будет оставаться таковым, пока существуют юмор и сатира. Так что безбородого лукавца можно считать бессмертным.
Вторая жизнь Алишера Навои
Огромным уважением на Востоке пользуется имя великого узбекского поэта Алишера Навои. Столь же пылкие чувства у людей к весёлому фольклорному герою Мирали, который известен на территории нескольких среднеазиатских республик – Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, а также – Афганистана. Между прочим, в Душанбе – столице Таджикистана – имеются улицы как Алишера Навои, так и Мирали. Во всяком случае, были, когда я там жил (имеются ли они в настоящее время, не проверил. Извините…)…
При этом не все знают, что это, фактически, один и тот же человек. Удивительно, забавно, парадоксально, но сие так.
Низамаддин Мир Навои родился 17 рамазана 884 года хиджры, что соответствует 9 февраля 1441 года современного летоисчисления. Он был сыном знаменитого тимуридского чиновника Гиясаддина Кичкине. В медресе Алишер Навои учился вместе с будущим правителем Хорасана Султаном Хусейном Байкара, который впоследствии приблизил его к себе и в 1469 году назначил своим визирем, дав титул эмира. Кстати, Навои – творческий псевдоним Мир Алишера, означающий по-узбекски «напевный, мелодичный».
Жизнь и творчество поэта неразрывно связано с Гератом, который в то время славился своими культурными традициями. Город лежал на скрещении караванных путей-дорог – из Ирана в Китай, из Индии в Среднюю Азию.
Своё назначение на высокий государственный пост Навои использовал для реализации многих культурных начинаний. В дарованной поэту Султаном Хусейном части города Герата на берегу канала Инджиль он возвёл целый квартал красивых зданий, как бы сегодня сказали, общественного пользования. Тут имелись дома для жилья, больница, школы, медресе Ихласийа, мечеть, дом чтения корана, ханака – странноприимный дом (гостиница) для учёных и поэтов, бани и другие строения. Общее число таковых – 380. Постройки утопали в зелени садов и парков. Также по указанию Навои проводились каналы, что в жарком климате было очень востребовано.
Сохранились свидетельства современников о том, что поэт принимал самое непосредственное участие в возведении зданий – они сооружались под его личным контролем, он даже месил глину и носил кирпичи. На благоустройство этой части города ушла значительная часть личных средств самого Навои.
Поэт оказывает широкое покровительство учёным, людям искусства, мастерами художественных ремёсел. Его благородная мудрость распространялась и на простой люд: он помогал нуждающимся, и даже несколько раз освобождал городское население от налогов, самолично внося за них необходимую сумму в казну. Защищал перед правителем несправедливо обвинённых.
Сам же жил предельно скромно. Вот что он писал тогда: «Из средств своих я брал себе на жизнь лишь то, что необходимо простому человеку, – довольствовался халатом, который защищал меня в жару и в холод, и непритязательной пищей. Остальное же я тратил на общение с народом, на питание служителей и домочадцев. А то, что оставалось сверх расходов на еду и исполнение различных обязанностей, я предоставлял на благотворительные дела».
Об этом свидетельствуют и современники поэта. Например, историк Хондемир сообщает: «Старался и радел эмир также об уплате налогов за бедных и о раздаче милостыни. Ему сообщали имена нуждающихся, и он оделял их своей щедростью… Помимо этого он ежедневно давал много денег кому-либо из своих слуг для раздачи неимущим во время объезда города».
Гений Алишера Навои был изумительно многогранен: он – несравненный мастер слова, блестящий поэт, который заставил музу говорить живым узбекским языком, проницательный мыслитель, мудрый политический деятель, учёный, музыкант, знаток ремёсел и щедрый меценат… Поистине нет такой области мысли, в которой он не сказал бы своего слова! Главная же заслуга его состоит в том, что он стал основоположником узбекской литературы, создателем литературного узбекского языка. О глубокой народности творчества Навои свидетельствует факт отражения его литературных сюжетов и образов в фольклоре, где он именуется Мирали (эмир Али).
В своих поэтических произведениях поэт критиковал правящую верхушку, которая жила праздно, в неслыханной роскоши, тогда же как народ пребывал в нищете и бесправии.
Вот как об этом отзывался тогда он:
«Скажу тебе: средь выродков земных
В особенности три породы гадки –
Безмозглый шах, скупой богач,
Учёный муж на деньги падкий».
Дворцовая клика видела в Навои своего врага. Зависть и ненависть, интриги и козни придворных со всех сторон окружали поэта. Непосильная борьба с противниками подтачивала его силы. В конце концов он вызвал недовольство Султана Хусейна. В 1487 году тот сослал Навои управлять отдалённой провинцией Астрабад. Но и здесь недоброжелатели противодействовали ему во всех его благородных начинаниях. Была даже предпринята попытка отравления. К счастью, неудачная. На следующий год, отказавшись от государственных дел, поэт вернулся в Герат.
Глубокой скорбью окрашены последние годы жизни Навои. Он видит крах своих надежд на возможность коренного переустройства страны, установления в ней мира и благоденствия. Не тогда ли у него сложились следующие стихи?
«Есть в мире и добро, и зло, и грех.
Добро – тайник, открыто зло для всех.
Плохого много, тонет мир во зле,
Добра и правды мало на земле.
(Поразительно злободневно звучат эти строчки.)
Имеются у него и вот такие слова-пророчества:
«Нет верности, нет чести в мире. Но погоди, настанет час –
Появятся другие люди и свет от мрака отстоят.
Красиво сказано, не так ли?.. Ах, если б это всё сбылось!
Ах, если б знать, что эти строки свечами истины горят!..»
Умер Алишер Навои 3 января 1501 года.
Жизнь такой колоссальной личности, как Навои, не могла не оставить заметного следа в народном сознании: простой люд всегда чувствовал в нём своего друга и защитника, повторял его мудрые афоризмы, пел его нежные газели, слушал поэмы о бесстрашном Фархаде и несчастном Меджнуне, о чистой любви Ширин и Лейли, о мудром и справедливом правителе Искандере.
Навои понимал это, с гордостью написав:
«Народ – поэт, а я при нём – писец. И вот за то
К народу я приближен и взыскан, как никто».
О поэте и народе рассказывали великое множество весёлых и забавных историй. В них он получил вторую жизнь под именем Мирали.
Правда, тут образ поэта весьма далёк от реального, ведь он быстро стал фольклорной личностью.
В народных анекдотах Мирали неразлучен с Султаном Хусейном (в туркменском народном творчестве, где особенно много таких историй, это – Султан-Союн). Видимо, народное сознание зафиксировало самое главное в жизни Мир Алишера Навои – его постоянное противостояние – обычно скрытое – с правителем за улучшение условий жизни простого человека.
Восточная поговорка гласит: «Пригоршня покажет, чем набит мешок». В одной из историй описано следующее:
…Однажды султан зашёл в дом Мирали и поразился той крайней нужде, в которой жил его визирь. Спросил: а куда он девает своё немалое жалованье?.. Мирали предложил на время обменяться одеждой и поехать в квартал нищих и калек.
Так и сделали.
К султану в одежде Мирали начали сбегаться толпы бедняков с криками: «Явился тот благодетель, что помогает нам!» Потом увидели, что ошиблись, и очень огорчились, но тут подошёл сам Мирали и принялся раздавать деньги. Так султан понял, куда уходит жалованье его визиря.
Конечно, в анекдотах стёрты исторические реальные исторические черты Алишера Навои и Султана Хусейна. Наш герой в них всегда изображён как человек из простого народа – находчивый, насмешливый хитрец, смело вступающий в борьбу с правителем и его завистливыми сановниками и всегда побеждающий их. Всё это роднит его с Ходжой Насреддином и другими весёлыми героями. Интересная деталь: Мирали всегда показывается живущим в бедности, что не совсем соответствует исторической правде, но неустанно пекущемся о неимущих.
Так, в одном из анекдотов Мирали раздаёт деньги из казны всем нуждающимся с условием возвратить их после смерти султана. Тот, узнав об этом, разгневался и потребовал к себе Мирали. Последний явился и объяснил, что делал это… для прославления и благополучия своего владыки. Султан удивился, а в ответ услышал: «Теперь каждый должник будет каждодневно молить аллаха о укреплении здоровья и продлении вашей жизни». Султану понравился этот ответ, и он простил своего визиря.
Практически ничего не известно о личной жизни поэта, а сам он умалчивает о ней. Известно, что он не имел ни гарема, ни жены, что в те времена было редкостью. Этот факт породил множество легенд, толкований, предположений. И вот такую историю…
Однажды Навои повстречал девушку редкостной красоты и всей душой влюбился в неё. Посватался и получил согласие. Но на его беду невесту случайно увидел Султан Хусейн, загорелся страстью и послал ней своим сватом поэта, не ведая, что тот её жених. Навои пошёл против своей воли и уговорил девушку выйти замуж за правительства. Она согласилась с непременным условием: он должен одновременно с ней проглотить пилюлю. Навои выполнил её желание. Затем девушка открыла, что теперь он навсегда потеряет способность иметь детей, а она сама умрёт через сорок дней.
После свадьбы девушка не подпускала к себе Султана Хусейна, а за несколько дней до кончины призвала поэта, дабы проститься с ним. Во время их свидания в гарем явился Султан Хусейн и Навои спрятался под большим котлом, но был обнаружен. Правитель всё же не стал его наказывать. Девушка умерла, а они вдвоём оплакали её смерть.
Исследователи пришли к выводу, что эта легенда не имеет под собой реальной почвы. Истинная причина безбрачия поэта остаётся тайной минувших веков.
Иные считают тому причиной философские взгляды Алишера Навои, он входил в суфийский орден дервишей Накшбандия, а потому, мол, любил только всевышнего. Приводят строки поэта из его поэты «Язык птиц»: «Я как Феникс родился в пламени любви. А он только рождается в пламени и умирает в нём. Он рождён только для того, чтобы сгореть. Нет, нет, что я говорю, я только обжигался от искр пламени, в котором горел настоящий Феникс…»
Много анекдотов о Навои собрал Зайн-ад-дин Махмуд Васифи в своей книге «Удивительные события». Острая сюжетность и блестящая литературная переработка заставляют усомниться в их полной достоверности. В этих историях поэт предстаёт далеко не всегда в идеальном свете, особенно – в язвительной перепалке с поэтом Бинои, в которой они оба порой пользуются такими выражениями, какие не могут быть приведены здесь по соображениям нравственности. Впрочем, в ниже следующем анекдоте подобные не встречаются…
«К Навои пришёл Бинои. Навои ему с издёвкой сказал: «Простите, но издали я вас принял за осла». – «Ничего, – парировал Бинои, – и я вас тоже поначалу принял за человека…»
Нужно заметить, почти всегда в споре с Бинои Навои оказывается побеждённым. Такой явно тенденциозный подбор указывает, что он сделан человеком, настроенным к поэту недоброжелательно. Но даже и тут видна положительная черта Навои: он поразительно демократичен и терпим к чужому мнению (даже по нынешним меркам), а ведь тогда царило ужасное «мрачное средневековье»! Имея огромную власть, он не обижается на самые дерзкие шутки, колкости по отношению к себе, держится на равных с зависимыми от него людьми.
Официальные источники пытаются придать Султану Хусейну ореол праведности и мудрости, но народ не только не принял, но даже напрочь позабыл и те положительные черты, что у него имелись. С Навои же дело обстоит иначе: «Все сохранившиеся источники единогласно рисуют нам этого великого человека только в положительных тонах, – замечает известный востоковед Е.Э. Бертельс, – никаких отрицательных черти, кроме разве что некоторой обидчивости, ему не приписывается. Произведения народного творчества, которые трудно заподозрить в неискренности и пристрастности, свидетельствуют, что народ, вероятно, ещё при жизни Навои считал его своим заступником и покровителем».
Немалую роль в такой оценке поэта сыграла сила его художественного слова и его неотразимая привлекательность как личности, человека, гуманиста. Она составляла основу его характера и обеспечила ему прочную славу. В творческое наследие гения входит около тридцати крупных произведений – диванов (сборников стихов), дастанов (поэм), научных и философских трактатов. А более мелкие трудно сосчитать.
Наверное, следует назвать наиболее значимые. В числе таковых – поэтический свод, этакая лирическая исповедь гения, «Сокровищница мыслей»; сборники «Сорок хадисов», «Диван Фани», «Шесть необходимостей и «Четыре сезона года»; прославленная «Пятерица», включающая в себя пять эпических поэм; дидактическая поэма «Смятение праведных»; героические дастаны «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Семь планет» и «Стена Искандера»; историческая антология «Собрание утончённых». А ещё есть «История иранских царей», «История пророков и мудрецов», аллегорическая поэма «Парламент птиц», философский трактат «Возлюбленный сердец» и другие.
По сей день большая часть произведений поэта известна и востребована. Поэзия Алишера Навои, пройдя через века, своей искренностью, человеколюбием, истинным гуманизмом продолжает волновать сердца всё новых и новых поколений.
Навои стал героем многих литературных произведений. Например, о нём писали: Абай «Навои», Муса Ташмухамедов «Алишер Навои», Л. Бать «Сад жизни».
Снят художественный кинофильм «Алишер Навои» на Ташкентской киностудии (1947 г.). В начале 1980-х годов вышел 10-серийный видеофильм «Алишер Навои».
Самый красивый проспект в Ташкенте носит имя Навои. Здесь имеется станция метро «Алишер Навои». Его имя носит узбекская Национальная библиотека.
В честь поэта назван кратер на Меркурии.
В Узбекистане известен колоритный город Навои: он заложен в 1958 году на левом берегу реки Заравшан. Со стороны кажется удивительным миражом или чудесным оазисом в пустыне. Это город современной архитектуры, благоустроенный, зелёный, а в центре его – чудесное озеро, питаемое артезианскими водами. В чём-то это можно считать символическим: творчество поэта дошло до наших дней через минувшие столетия, как эта вода пробилась сквозь тяжёлые пласты земных пород к свету, солнцу, свободе, народу…
Находится город Навои в одноимённой – Навоийской – области Узбекистана. Добро пожаловать, найти легко, не ошибётесь, не заблудитесь.
Суровый смех Мушфики
В таджикском фольклоре существует колоритный ряд образов шутников, острословов и насмешников. В их числе смышлёный Куса («безбородый»), догадливый Каль («плешивый») и комические фигуры скряг – Боки и Соки, а также – национальный аналог незабвенного Ходжи Насреддина – Насреддин Афанди и наш герой – Мулло Мушфики.
Два последних наиболее известны, практически невозможно сыскать в Таджикистане человека, который не знал бы десяток-другой латифа (шутка, острота – в переводе с арабского) о защитнике бедных, острослове Мулло Мушфики.
Прототипом этого впечатляющего народного героя послужила реальная личность – поэт Абдурахман Мушфики Бухари. Мушфики – его псевдоним. В переводе с арабского – «сострадательный», «милосердный», «сочувствующий», «отзывчивый».
Вкратце его биография такова. Родился Абдурахман Мушфики в 1525 году в Бухаре. Его семья не отличалась достатком, он рано осиротел, но благодаря неизвестному покровителю получил в медресе неплохое по тем временам образование. Писать стихи начал в раннем детстве. Характерно, что поначалу они были сатирическими. Из них Мушфики составил свой первый диван (сборник) «Дивани Мутаибот». В него вошло около полутора тысяч миниатюр. Это было приблизительно в 1557-58 годах.
Семь лет спустя Мушфики едет в Самарканд, где становится хранителем книг (библиотекарем) и поэтом при дворе тамошнего правителя Султана Саиди. Как это видно из стихов самого поэта, живётся ему тяжело: нет постоянного крова, не хватает денег на самое необходимое, порой голодает. В это время он составил свой второй диван, на этот раз уже из газелей.
После смерти Султана Саиди престол занял его брат Джавонмардали (1572-73 гг.). Мушфики попытался добиться его расположения, написал и посвятил новому правителю свои касиды, но все усилия оказались тщетны – желаемой цели его произведения не возымели.
В 1575 году Самарканд захватывает жестокий Абдуллах Шейбани. С определённым трудом Мушфики сумел войти к нему в доверие и одно время даже носил звание уш-шуара (царь поэтов), но потом правитель к нему по какой-то причине очень сильно охладел. Причина этого неизвестна. Возможно, чем-то провинился до такой степени, что Мушфики пришлось отправиться в Индию, возможно, ради собственной безопасности. Там он некоторое время побыл в окружении Акбаршаха, но тот не оценил по достоинству талантов поэта. В конце концов, Мушфики возвратился в родную Бухару, где жил до самой своей смерти, которая последовала в 1588 году.
Литературное наследство Абдурахмана Мушфики довольно обширно: он творил едва ли не во всех традиционных жанрах современной ему поэзии – касыды, рубаи, китъа, месневи, мухаммасы, таърихи и т.п. Даже создал новую поэтическую форму ««мусалласи мураккаб»: в трёхстишиях рифмовались две первые строки.
Образцом поэтического мастерства, простоты и остроумия являются поэмы «Цветник Ирема», «Поэма о вине» и «Отражающий мир»; касыда «Сто один узел». Содержателен и очень остр «Сатирический диван».
После смерти произведения Абдурахмана Мушфики были собраны в книге «Куллият». (Во времена СССР в наиболее полном виде рукопись хранилась в фонде восточных рукописей АН Таджикской ССР под инвентарным номером № 445.)
Как и многие знаменитые поэты прошлого, Мушфики был одновременно неплохим музыкантом, владевшим разными инструментами. Им переложены на различные системы восточной классической музыки «Шашмаком» (шесть макамов – в переводе с персидско-таджикского), многие газели и рубаи, они не забыты по сей день.
Важное место в творчестве поэта занимает сатира. Ещё будучи учеником медресе, он написал множество мутаибот – стихи, пародии, эпиграммы. В кругу друзей Мушфики славился остроумием, неунывающим нравом и находчивостью. Объектом высмеивания он обычно избирал своих литературных противников, недоброжелателей, а также – представителей правящей верхушки. Язык его мутаибот близок к простонародному, нередки в нём крепкие выражения. Оправдываясь, автор ссылался на авторитет великих – Фирдоуси, Низами, Санаи, Фараби, Сузани, Амира Хусрава Дехлави, Камола Худжанди, Убайда Закани и прочих, которые также их не чурались.
Уже при жизни Абдурахмана Мушфики его остроумные стихи приобрели широкую известность. Он хорошо знал среду правящих кругов, среди коих провёл значительное время, воочию убедился в их ничтожестве, порочности, продажности, подлости, вероломстве. На себе испытал, как тяжела участь честного человека, не имеющего поддержки влиятельного лица. В своих сатирах поэт осуждает несправедливые порядки, законы, жадность богатеев, произвол правителей, лицемерие духовенства. Здесь ему зачастую приходилось прибегать к иносказанию, эзопову языку. Словом, проявлять предельность осторожность, ведь за каждое правдивое слово можно было жестоко поплатиться.
Он признаётся: «В глубине моего сердца, как в запечатанном письме, тысячи невысказанных слов, но я наложил тавро молчания на свои губы».
Конечно, говорить об абсолютном сходстве реального Абдурахмана Мушфики Бухари с фольклорным Мулло Мушфики нельзя. Тем более, что известны ещё шесть поэтов, носящих имя Мушфики. Трое из них жили в одно время с нашим героем или чуть позже. Их биографии в чём-то переплелись с жизнеописанием Абдурахмана Мушфики Бухари, но всё же главную лепту в создании образа Мулло Мушфики внёс, конечно же, народ, который связал с именем полюбившегося ему поэта цикл забавных и смешных латифа.
Рассказывались они обычно в чайхане, которые являлись своеобразными клубами, где собирались самые разные люди, преимущественно из простонародья, которые обменивались новостями, мнениями, спорили на разные темы, любили весёлую шутку, острую издевку в адрес власти, острое словцо, порой даже «солёное». Так что творения Мулло Мушфики вспоминались очень часто, встречались с восторгом.
В начале моего повествования упоминался «брат» по улыбке сурового поэта – Насреддин Афанди. Во многом их образы схожи: они оба никогда не теряют присутствия духа, горазды на меткое словцо, находчивы, остроумны, но смех Мушфики более суров, часто горек, зачастую гневен. В нём звучит нескрываемый сарказм, издёвка, едкая насмешка. Сатира у него поднимается до социального протеста, и делается это им совершенно сознательно, с пониманием происходящего.
О чём свидетельствуют слова Мушфики: «Сатира – меч, орудие поэта, не порицай его и не пренебрегай им». Этим своим мечом он обличает представителей правящего класса – падишаха, его свиту и блюдолизов, казиев, мулл. Им противопоставляются здравый ум, сметка, житейский опыт простых людей.
Наглядный тому пример анекдот о Мушфики-художнике…
Как-то раз падишаху показали рисунок, где был изображён дехканин прекрасного телосложения, мускулистый и красивый, работающий в цветущем саду.
– Как всё верно передал художник! – восторгались придворные и падишах.
– Нет, рисунок плох! – заявил Мушфики. – Он далёк от реальности. Вот если бы я рисовал, то сумел бы более верно изобразить вашего подданного.
Разгневанный падишах приказал ему сделать это.
Мушфики взялся за дело и под его кистью возник тщедушный сгорбленный дехканин с землистым цветом лица и ввалившимися щеками. А орудовал он кривым ржавым кетменём в чахлом садике.
– Что это за урод? – воскликнул падишах. – Разве можно его сравнить с тем, что на другом рисунке?!
– Мой рисунок лучше, правдивее, – настаивал на своём Мушфики, – но разве я виноват, что в годы вашего «справедливого» царствования во всём государстве не найти дехканина здоровее этого!
…В другом анекдоте, говоря о грузе двух ослов, Мушфики подразумевается под ними падишаха и его визиря. Вот так:
«Выехав на охоту, эмир и его вазир взяли с собой Мушфики. За ними плёлся пешком слуга. День был жаркий. Скинув с себя тяжёлые золототканные халаты, эмир и его вазир взвалили их на плечи слуги.
– Взгляни, Мушфики, – сказал эмир, – какой у меня выносливый слуга! Ведь то, что несёт он на плечах, – это полный груз осла!
– Даже больше, ваше величество, – ответил Мушфики, – это груз двух ослов!..»
Примечательно, что если в латифа говорится о простом человеке, то здесь смех не оскорбителен, не унижает, а похож на дружеское подтрунирование, шуткование, балагурство.
Столь разное отношение к людям указывает на классовое происхождение большинства анекдотов. Они родились в гуще социальных низов. В таких историях чувствуется снисходительность мудреца к маленьким, простительным слабостям угнетённого человека. Если же речь идёт о представителях господствующего класса, тогда Мушфики беспощаден.
В 1926-29 годах в Самарканде выходил сатирико-юмористический журнал «Мулло Мушфики» на таджикском языке. Он был приложением к газете «Овози тоджик» («Голос таджика»). Позже он был переименован в «Мушфики» выпускался в качестве приложения к газете «Узбекистанская правда». Позже сменил название на «Бигиз» («Шило»).