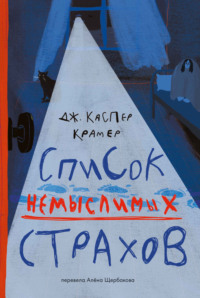Полная версия
История, которую нельзя рассказывать

Джессика Каспер Крамер
История, которую нельзя рассказывать
Мистеру Хауэллу, моему учителю в пятом классе. Помните, я обещала: первая книга будет для Вас.

Пролог

Однажды кое-что случилось. А не случилось бы – и рассказывать было бы нечего.
К западу от Чёрного моря лежит прекрасная страна с древними лесами, реками и длинной горной грядой. Страна эта зовётся Румыния, и о ней пойдёт мой рассказ. Когда-то Румынией правили князья, короли и даже римские императоры. Но не так давно власть оказалась в руках коммунистической партии, которая нечестным путём провела выборы и сделала предводителем тщеславного самолюбца.
Поначалу народ Румынии верил, что жизнь изменится к лучшему. Новый глава государства был из простых людей, как и многие граждане, – когда-то он жил в деревне и работал подмастерьем сапожника. Правитель обещал привести страну к процветанию, и, вероятно, так и собирался сделать. Но власть завладевала им всё больше и больше и в конце концов, как часто бывает, поглотила его целиком.
Правитель стал устраивать парады в свою честь. Взял под контроль прессу, телевидение и радио, чтобы они говорили только то, что ему по нраву. Он разрушил церкви и больницы и вынудил сорок тысяч человек покинуть свои дома в Бухаресте, чтобы он мог построить для себя одного великолепный дворец с винтовыми лестницами, мраморными полами и туалетом из чистого золота.
При таком правителе народ Румынии обнищал и впал в отчаяние. Детские приюты были переполнены. Бензин, воду и электричество пришлось строго нормировать. Каждый день люди часами стояли в очередях, просто чтобы купить еды, а иногда и покупать было нечего. Но хуже всего была тайная полиция, Секуритате, которая вынуждала людей шпионить за соседями и друзьями и доносить обо всём правительству. Иногда агенты Секуритате даже похищали, пытали и убивали тех, кого считали угрозой.
Люди жили в постоянном страхе: они не знали наверняка, кто за ними следит. Опасность таилась везде: нельзя было читать запрещённые книги, слушать запрещённую музыку, смотреть запрещённые фильмы.
Но опаснее всего было писать. Если написать запретные слова, если рассказать запретную историю, можно было попросту исчезнуть.
Социалистическая поэзия

Папа вернулся домой из университета с бледным осунувшимся лицом, будто заболел. Бросив портфель на пол в кухне, он оперся о раковину и сказал:
– Он пропал. Они его убили.
Мама, сидевшая за столом, отложила журнал «Фемея», который читали все женщины Румынии. Затем глянула на меня, встала, сняла с папы шляпу и повела его в их комнату. Дверь за ними тихо закрылась.
Была середина июля 1989 года; электричество в Бухаресте работало с перебоями и часто отключалось. Мы жили в многоэтажке, и в квартире было очень жарко – мы тушились в собственном соку, как голубцы в сотейнике. Поэтому балконные двери всегда были открыты настежь – чтобы по комнате гулял ветерок.
Я распласталась в зале на полу. Рядом лежала Большая Книга, и от тёплого дуновения страницы с моими историями тихо шелестели. Отложив цветной карандаш в сторону, я прислушивалась к звукам по ту сторону стены, и с каждой секундой сердце у меня билось всё чаще.
Наша квартира была очень маленькая, с порога её можно было охватить одним взглядом: балкон, где мы сушили выстиранную одежду; зал с кухней; крошечная ванная с туалетом, моя комната и родительская спальня. Мама говорила – не при папе, который пресекал такие разговоры, – что если нас опять заставят переехать, то наша семья со всеми пожитками поместится в шкаф. Мама скучала по нашей старой квартире со столовой, кладовкой для продуктов и угловым кабинетом, где стояло её пианино. Я не помнила ту квартиру: когда мы съехали, я была ещё совсем маленькой. Но я знала, что родители смогли взять с собой только то, что получилось унести. Им дали на сборы всего день.
Пока я сидела в зале, напряжённо вслушиваясь в голоса за стеной, в голове крутилось, что теперь нас ждёт ещё один переезд. Что-то сильно напугало папу, и из-за этого нам придётся собрать вещи и уехать. Интересно, следующая квартира будет ещё хуже этой? Когда Вождь разрушил наш прежний дом, чтобы построить себе дворец и широкий бульвар, мы, как и все остальные, оказались в одной из жутких блочных многоэтажек, совершенно одинаковых и тесно прижатых друг к дружке. Иногда я представляла, как моя семья жила раньше: в кладовке полки ломились от буханок хлеба и банок с вареньем, папины книги стояли рядами на стеллажах от пола до потолка. В моих фантазиях у нас всегда было вдоволь еды, а горячая вода текла из крана не только в субботу вечером. Мы могли купаться когда угодно, даже зимой и даже при отключенном центральном отоплении.
Но я собирала истории, и выдуманные, и настоящие.
И умела отличить правду от вымысла.
У моей семьи никогда не было вдоволь еды. И воды горячей тоже не было, и света, и много места, где жить. В свои десять лет я уже замечала, что все, и я в том числе, говорили о прежних временах каким-то особым тоном и особыми словами. Раз мы верили, что раньше жилось лучше, то могли и представить, что всё наладится вновь. Так мы выживали.
Из-за двери родительской спальни послышался глухой стук – будто кто-то ударил кулаком по комоду. Я подскочила, когда шум раздался снова. Приглушённые звуки докатывались до меня волнами: громкий голос папы, шиканье мамы. Я знала, что она просит его говорить потише не из-за меня, а из-за соседей, которые могли подслушивать за стеной, кто угодно мог случайно оказаться на лестничной клетке, остановиться и достать ручку и блокнот. Всегда лучше держать в уме, что кто-нибудь может подслушивать.
Когда дверь в родительскую спальню наконец открылась, я притворилась, что пишу в Большой Книге, – чтобы родители не заметили, как мне страшно. «Сын пекаря» – моя новая история, пересказ одной истории, которую нам рассказывали в школе. Но я не могла сосредоточиться на словах. Родители начали молча накрывать на стол к ужину, а я поглядывала на них украдкой. Пытаясь не гадать, кого убили, я принялась рисовать батоны золотисто-коричневого хлеба на полях первой страницы. Но когда солнце село, в тусклом свете все яркие краски Большой Книги стали мерзко-серого цвета, поэтому я подняла её с пола и отнесла на диван.
Электричество до сих пор не дали, и в тёмном экране телевизора я видела только своё отражение. Но всё равно села и стала таращиться в экран. Я слегка повеселела, вспомнив свои любимые фильмы, хоть и знала, что посмотреть их больше не получится.
Раньше у нас работало два канала, и по ним весь день шли передачи. Мама до сих пор иногда вспоминает американское телешоу с мужчиной в ковбойской шляпе, где в конце кто-нибудь обязательно ловил пулю или взрывался в машине. Но сейчас у нас остался всего один канал, который включают только на два часа в день. И таких телешоу больше не показывают. Обычно по телевизору идёт что-нибудь скучное: записи обращений Вождя к народу; съезды коммунистической партии – крошечные человечки на экране вместе что-то скандируют и одновременно вскидывают кулаки; трансляции, в которых гражданам дают рекомендации по «рациональному питанию» или вежливо напоминают о начале комендантского часа.
Впрочем, по воскресеньям показывали анимационные фильмы, и можно было застать целых пять минут какого-нибудь мультика. Все, кто имел телевизор, старались не пропускать время показа. Прошлым летом я таким вот образом посмотрела все серии «101 далматинца» и потом хвасталась ребятам в школе. В этом году шли «Коты-аристократы», и в последней серии бедные котята оказались где-то за городом одни и сильно испугались. Следующую пятиминутную серию покажут только на выходных, но, если дадут электричество, возможно, наша самодельная антенна поймает какую-нибудь интересную болгарскую телепередачу и мы все вместе сядем её смотреть. И, как всегда, забудем обо всём плохом.
Похоже, сегодня мне повезло: когда мы садились за стол, дали электричество.
– Можно мне включить вентилятор? – спросила я папу.
Иногда он не разрешал. Если превысить лимит на электроэнергию, придётся платить высокий налог. Но сегодня папа даже не посмотрел на меня, только махнул рукой – я это приняла за согласие – и сел за стол. Морщины вокруг его глаз за большими стёклами очков стали как будто глубже, и я встревожилась: вдруг он и правда заболел?
Вернувшись за стол, я подставила голову под поток воздуха от вентилятора, чтобы ветерок трепал волосы, и, опустив взгляд в тарелку, ковырнула вилкой еду. Пирог с баклажанами и картофелем, без мяса. Очередь в мясной отдел была слишком длинная. Человек, следивший за порядком в длинной веренице людей, сказал нам с мамой, что придётся ждать пять, а то и шесть часов, чтобы получить по карточке нашу норму. Я думала, мама предложит нам стоять посменно, но мы просто пошли домой.
Откусывая понемногу от куска чёрствого хлеба и отодвигая вилкой баклажаны к краю тарелки, я изо всех сил старалась не жаловаться. Папа всё ещё молчал. Вид у него был по-прежнему болезненный, я то и дело поглядывала на его лицо. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из родителей заговорил. Я знала, что они не расскажут, кто убит и почему, – они и раньше не рассказывали, но чем дольше мама с папой молчали, тем больше мне не терпелось узнать – ведь наверняка это был кто-то важный.
Не вытерпев, я попыталась привычным способом заполнить тишину – рассказать историю.
– Хотите послушать новую историю?
– Лучше в другой раз, – сказала мама.
В животе у меня ёкнуло. Кровь прилила к щекам. Родители никогда не отказывались меня слушать.
Я снова принялась ковырять вилкой еду и гадать, кто же умер. Мне стало страшно. Раньше так никогда не было. Раньше папа не придавал этому такого значения.
Папа отложил вилку.
– Так вот чем ты сегодня занималась? Истории писала?
Я подумала, он сердится, что я не делаю задание на летние каникулы, поэтому быстро ответила:
– Это школьная история. Госпожа Думитру рассказала нам её перед каникулами.
– В другой раз, – повторила мама, и теперь я уловила в её тоне предостережение.
– Нет, я хочу послушать. Хочу знать, что они рассказывают моей дочери. Хочу знать, о чём она пишет.
Я вжалась в стул, переводя взгляд с мамы на папу. Тут пробили часы, и я спросила:
– Можно мне выйти из-за стола?
Мама глянула на мою тарелку, нахмурилась, но кивнула.
– Отнеси посуду в раковину. И выключи вентилятор – простудишься.
– Так что насчёт рассказа? – напомнил папа.
– Я забыла, что не дописала его, – соврала я.
Наполнив раковину мыльной водой, я включила телевизор и села на продавленный диван. По чёрному экрану шли помехи. Я глянула на балкон: может, кто-то забрался на наш этаж и украл антенну? Но нет, ничего такого. Я обернулась к родителям. Меня одолевали сомнения. Мама мыла посуду, опустив руки по локоть в воду, папа помогал вытирать. Оба по-прежнему молчали – это был плохой знак.
Обычно после ужина мне приходилось включать телевизор погромче: мама любила петь, а папа всегда принимался подпевать, хотя ему медведь на ухо наступил. Или же они болтали о работе.
В старой квартире мама давала уроки музыки на дому. Но, оставшись без пианино, она устроилась на работу секретаршей. Теперь мама возилась с бумажками, отвечала на звонки и перепечатывала на машинке копии документов, поскольку копировальные машины были под запретом. Иногда работы было так много, что ей приходилось запрашивать особое разрешение, чтобы забрать печатную машинку домой.
– У меня самая ужасная работа на свете, – говорила мама.
– По крайней мере, безопасная, – отвечал папа.
Папа был профессором в Бухарестском университете, он читал лекции по литературе и литературной композиции. Сам он писателем не стал, но истории любил почти так же сильно, как я, поэтому всю жизнь учился их слушать. Он умел проникать в самое сердце истории и понимал, отчего оно забьётся, а отчего остановится. И этим даром папа поделился со мной.
Если после ужина папа не пел или не разговаривал с мамой, то, как правило, терпеливо обсуждал со мной новые идеи для рассказов. А когда отключали электричество и мы не могли посмотреть телевизор, папа зажигал свечу, я приносила ему очки для чтения и мы уютно устраивались на диване с книгами.
Обычно после ужина наша семья находила какие-нибудь поводы для радости, даже в самые трудные времена. Но сегодня папа молчал. Он сгорбился как старик – или как будто на плечах у него лежал мешок с камнями. И хотя кухня находилась совсем рядом и до папы было рукой подать, казалось, он далеко-далеко, в сотне километров от меня.
И то, что его терзало, стало терзать и меня.
Я подползла к телевизору и принялась крутить переключатель каналов, пытаясь поймать болгарский. Мы не говорили по-болгарски, но передачи у них получше наших. Когда показывали «Коломбо», папа иногда притворялся, будто понимает, о чём там речь: придумывал какие-нибудь глупые реплики, и мы все смеялись как сумасшедшие. Если и сегодня так выйдет, жизнь станет прежней, и будет уже неважно, кто там умер, и всё будет как всегда.
– Мам, по телевизору ничего нет! – крикнула я, теряя последнюю надежду.
Мама бросила взгляд на часы.
– Тогда смотри новости.
– Мам, ну пожалуйста.
Она вытерла руки, шумно вздохнула и вышла на балкон покрутить антенну. Когда мама вернулась, по экрану по-прежнему шли помехи, поэтому она переключила канал на вечернее государственное вещание.
– Я хочу посмотреть болгарский сериал! – заволновалась я. Смотреть новости – хуже нет затеи. Чаще всего родителей они только больше расстраивали.
Я не унималась, и мама шикнула на меня и пару раз легонько шлёпнула по затылку. За спиной у диктора новостей мелькали чёрно-белые фотографии Вождя с прилизанными седыми волосами и по-детски пухлыми губами. Рядом была его жена в платье-костюме и с ниткой крупного блестящего жемчуга на шее. Её всегда фотографировали анфас, чтобы нос казался поменьше. Вместе они стояли перед огромной толпой, а на стене у них за спинами были гигантские плакаты с лицом Вождя. Люди хлопали в ладоши. Флаги развевались на ветру.
Я демонстративно сползла с дивана на пол и, перевернувшись на живот, принялась стонать и не прекращала до тех пор, пока мама не подошла и не похлопала меня ступнёй по попе.
Должно быть, включили выступление Вождя: я услышала, как он обращается к ревущей толпе и говорит о том, как важно хранить верность своей стране и ценить поэзию.
– Все любят хорошие стихи о любви, – произнёс он. – Но, конечно, высшая форма искусства – это социалистическая поэзия.
Мама села на диван и позвала папу:
– Лючиан.
Он подошёл ближе. Я перестала ёрзать и подняла голову.
Вождь прочёл несколько строк из стихотворения. Я знала автора. Мы проходили его в школе. Это стихотворение восхваляло государство и коммунистическую партию.
Но я знала и другие стихи этого поэта, вот только учителя не читали их на уроках. А знала я их потому, что этот поэт учился в университете вместе с дядей Андреем, папиным братом. Он написал много всякого, чего не следовало писать, и в тех стихах он отзывался о нашей стране совсем не так лестно. И незадолго до смерти – до того, как однажды ночью его переехал трамвай, – вдохновил дядю, чтобы он тоже писал стихи.
Я сжалась и посмотрела на папу.
– Какие чудесные строки, – с улыбкой сказал диктор, когда вставка закончилась. – Наши писатели и поэты должны всегда стремиться к такому красивому слогу.
Папа побелел как мел. Когда он всхлипнул, я вся обмякла. И почувствовала, что тоже вот-вот заплачу, но тут мама поднялась с дивана и велела мне идти к себе в комнату.
– Не волнуйся, папе просто нездоровится, – сказала она.
Но я знала, что мама говорит неправду – я ведь собирала истории.
Я знала, что мой дядя, поэт, не приходил домой уже неделю. И теперь я знала и ещё кое-что: это про него мой папа сказал «Они его убили».
Но распознать ложь и узнать правду – не одно и то же.
Папа плакал не только потому, что боялся за брата – брата, который писал опасные стихи.
Он боялся ещё и за меня.
Заражение

Сколько себя помню, я всегда засыпала под папин голос. Мама говорила, папа начал рассказывать мне истории ещё до моего рождения, когда я была у неё в животе, и они проникали в каждую клеточку моего тела и формировали мою личность.
У моей самой любимой истории нет концовки. Это старая народная сказка «Хитрая Иляна», в честь которой меня назвали. По сюжету принцесса должна одолеть трёх злобных принцев. Но так получилось, что за всё моё детство, рассказывая мне её перед сном, папа так и не добрался до концовки, потому что каждый раз начинал сказку с начала. Иногда он засыпал первым: голова клонилась на грудь, очки сползали с длинного носа, язык еле шевелился. Но чаще первой засыпала я.
– Я не засну, пока ты не доскажешь, – всегда говорила я. – Так что и ты не спи.
Обычно папа клятвенно обещал, что не уснёт, и это тоже было своего рода ритуалом, благодаря которому эта сказка и стала такой особенной для нас обоих.
В тот вечер, когда папа плакал, я лежала в постели, укрывшись одеялом до подбородка, и ждала, когда он придёт рассказывать мне вечернюю историю. Я убеждала себя, что всё в порядке. Папа не может знать наверняка, умер дядя или нет. Если Секуритате его забрали, то могут и отпустить. Всё ещё наладится.
Я напрягла слух, чтобы не пропустить звук папиных шагов за дверью комнаты. Затем зажмурилась и мысленно поклялась себе не засыпать, пока он не расскажет всю сказку до конца. И на этот раз, как бы сильно я ни устала, я точно-преточно не засну.
Но папа так и не пришёл.
И следующим вечером тоже.
И вечером после.
Во вторник утром я проснулась с ощущением, что мои кости будто становятся полыми, потому что истории, которые меня сформировали, потихоньку улетучиваются из тела. Прошло уже три дня с того вечера, как папа плакал. Я трижды молча ужинала, трижды наблюдала, как родители молча моют и вытирают посуду. Трижды меня отправляли спать раньше обычного, и трижды я оставалась без истории на ночь, даже из книжки. Но что хуже всего, было ясно, что дело не только в дяде – каждый раз, когда я доставала Большую Книгу, папа наблюдал за мной с беспокойством и горечью.
У меня было такое чувство, что нашу квартиру словно поместили на треснувшую стеклянную полку. И я ходила по комнатам на цыпочках: один неверный шаг, и всё полетит в пропасть. Как, например, когда я забывалась и жаловалась на баклажаны или печёнку или когда однажды вечером принялась ныть, что не хочу чистить зубы.
Делу не помогало и то, что на прошлой неделе начались летние каникулы и я целыми днями торчала дома в одиночестве. Других вариантов просто не было. Мамины родители жили где-то в горах на другом конце страны, но даже если бы они жили ближе, их всё равно не попросили бы приглядывать за мной. Мама сбежала из деревни ещё подростком. Она не разговаривала с родителями с моего рождения. Раньше летом за мной присматривал дядя Андрей, когда бывал трезвым. И ещё бабушка с папиной стороны, моя бабуля, которая пережила своего мужа. Но теперь ни бабули, ни дедули больше нет, а может, и дяди Андрея тоже.
Никому из соседей родители не доверяли. И никому из своих друзей (и знакомых) тоже.
– Ты оставишь её одну в нашей квартире? – спросила мама папу о пожилой даме, которую они оба знали много лет. – Она будет трогать наши вещи, полезет смотреть мои рецепты.
– И что же такого страшного она там найдёт? – рассмеялся папа.
– Что-нибудь да найдёт.
Конечно, поначалу, когда меня всё-таки стали оставлять дома одну, я очень радовалась. Я ведь месяцами твердила родителям, что уже достаточно взрослая, мне же целых десять лет. Мама всегда была за женскую независимость (особенно когда мужчины постарше на эту независимость покушались), поэтому объявила, что всецело доверяет мне. Но папа считал, что я безответственная и недальновидная. Он думал, что если оставить меня одну в квартире, то случится какая-нибудь беда.
Увы, он оказался прав.
Первым нарушенным запретом стал вентилятор, который я обещала не включать, но включила.
Я не виновата. Ну, не совсем. За эти дни произошло столько всего плохого – мы не разговаривали за ужином, родители не пели за мытьём посуды, папа не говорил всякие глупости во время болгарского сериала и не рассказывал мне истории на ночь, – что я была уже на грани. На третий день я сама поняла, что папе горько и страшно оттого, что дядя Андрей наверняка попал в беду, но родители так ничего мне и не рассказали. Моё воображение само заполнило пробелы. И, сидя в одиночестве в квартире, я маялась.
Так что, когда дали электричество, первым делом я включила вентилятор.
Я сидела за кухонным столом, холодный воздух задувал мне под футболку, и я упивалась своим бунтом. Раз родители что-то от меня скрывают, значит, и у меня будут от них секреты. Вслед за первым правилом я вскоре нарушила и следующее. Я обещала делать уроки на лето, но нет, этому не бывать. Отодвинув в сторону сочинение по литературе и тетрадку с заданиями по естествознанию, я освободила место для Большой Книги.
Её хлипкую картонную обложку украшали приклеенные стразы из пластика и целая россыпь блёсток. Страницы я взяла из тетрадок на пружине, жёлтых линованных блокнотов и наборов цветного картона. Большая Книга стала делом всей моей жизни – это была внушительная коллекция написанных от руки историй, ни в чём не уступающих книжкам на полке. Некоторые я переписывала из книг, меняя всё, что мне в них не нравилось. Другие были пересказом историй, которые я услышала от разных людей, и не всегда было понятно, что в них правда, а что нет. Конечно же, лучшие истории я целиком придумала сама. Я нарочно не прошивала страницы, чтобы можно было менять куски местами или вставлять новые версии, и с годами Большая Книга становилась всё толще и толще, так что в конце концов папа дал мне старый ремень, которым я её перетягивала, чтобы закрыть.
Как следует сосредоточившись на новой истории, я взяла цветные карандаши из помятой голубой консервной банки, разложила их по длине и похрустела пальцами, в точности как дядя Андрей. Папа больше не рассказывает мне истории на ночь, думала я, тем важнее продолжать их писать.
Но в голову ничего не приходило.
Я долго смотрела на чистый лист. С каждым мгновением моё воображение угасало. И вот когда я уже было решила бросить это занятие и сесть за математику, в дверь постучали.
Я замерла. К нам никто никогда не приходит, когда родителей нет дома. Впрочем, папа несколько раз мне объяснял, как вести себя в таких случаях, поэтому я велела себе успокоиться.
– Просто не отвечай, – говорил он. – И постарайся вести себя очень тихо.
– Притвориться мёртвой? – спрашивала я, улыбаясь.
Он невозмутимо отвечал:
– Ага, точно. Притворись мёртвой. Главное, не отвечай.
Так что я не шелохнулась и только слушала, как шумит вентилятор. Незваный гость постучался снова и крикнул:
– Есть кто дома?
Я сидела тихо. Человек за дверью уйдёт. Непременно уйдёт. Папа не объяснил мне, что делать, если уходить чужаки не захотят. Видимо, он не рассматривал такую возможность.
Незнакомец начал возиться с дверным замком.
Я кинулась к двери с криком, схватилась за дверную ручку, потом за щеколду, чтобы её не отодвинули с той стороны.
– Не входите! – заорала я.
Судя по звуку, человек отпрянул от двери.
– Ты до смерти меня напугала! Я ведь два раза стучал!
– Вы вор-домушник, я сейчас полицию вызову!
– Да никакой я не домушник! Электрик я! Хозяин дома дал мне ключ. Мне нужно заменить провода.
Я задумалась. Вроде бы логично.
– Слушай, девочка, у меня полно квартир на очереди. Ты меня впустишь или мне управляющему звонить?
– А где надо заменить провода? Я пойму, если вы вздумаете меня обдурить. Я прочла целиком книжку об электротехнических правилах и нормах.
Это было наполовину правдой. Вообще я только картинки посмотрела. Это руководство папа принёс вместе со стопкой других книжек, которые достал из библиотечного мусорного бака. Книги выбрасывают порой по очень странным причинам. Папе не нравилось приносить их домой тайком, но надо же было как-то находить для меня книги. Я читала быстрее, чем он успевал добывать новые.
За дверью на некоторое время воцарилась тишина. Из-за меня люди часто теряли дар речи. Затем незнакомец медленно проговорил: