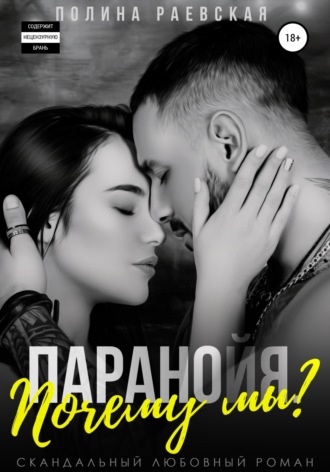
Полная версия
Паранойя. Почему мы?
– В смысле? Это че щас за наезд?
– А вот такой вот! Хоть бы раз приехал просто так. А то вечно либо мимоходом, либо покоцанный весь.
– Так ты бы еще дальше забурилась.
– О, ну, конечно, – пыхтит она зло над его плечом, и я уже по ее перекошенному лицу вижу, что Долгову сейчас снова будет больно.
И точно: в следующее мгновение он стонет от боли.
– Бл*дь, Томка, ну, поаккуратней -то будь! Че зверюга-то такая? – взяв стоящую рядом бутылку рома, цедит Сережа раздраженно, мне же хочется вырвать руке этой обнаглевшей Томке.
Какого вообще хрена она права какие-то качает? Мужик двести лет, как забыл к ней дорогу, а она все туда же. Самой не стремно?
– Какие пациенты – такие и медсестры, – отбривает меж тем Большеротая, однако, Долгова это только веселит.
– Ну, ты и злющая, – дразнит он ее, делая несколько глотков прямо из бутылки. – А я тебе, помнится, предлагал нанять управляющего на базу и переезжать ко мне в город.
– В качестве кого? Твоего вкусного, румяного поросеночка?
Долгов смеется, а я с горечью осознаю, что рыжая попала в точку. Так и есть: я – вкусный поросеночек, которого холили и лелеяли, чтобы безжалостно сожрать.
– Между прочим, никто из моих «поросеночков» не жаловался, – будто в противовес мне заявляет Долгов. Рыжая недвусмысленно хмыкает.
– Если бы я хотела быть на привязи у сахарного папочки, я бы тоже не жаловалась.
– Ты бы не жаловалась, если бы знала, чего на самом деле хочешь, – обрывает Долгов в своей безапелляционной манере. Естественно, Большеротую это задевает.
– А я, значит не знаю? – замерев, уточняет она вкрадчиво и сверлит Долгова полыхающим взглядом.
– Не знаешь, – снисходительно подтверждает он. – Знала бы, не смотрела бы на меня так.
Он понижает голос, отчего в нем снова проскальзывают те самые, кобелиные нотки, от которых у меня внутри все стягивает жгутом, Рыжая же, напротив, приободряется.
– Так – это как? – спрашивает кокетливо, вновь поднимая во мне только-только устаканившуюся бурю.
– С неизбывной, женской тоской, Томка, по большому члену и хорошей ебл*, – с видом величайшего мыслителя, посвящающего в основы мироздания, выдает Долгов, отправляя в нокаут и меня, и судя по всему, Томку. Правда, она быстро приходит в себя и начинает хохотать.
– Господи, Серёжка, вот что ты за беспардонная морда?!
Это ласковое, интимное «Серёжка» отдается во мне глухой болью, как и последовавший ответ.
– Ну, а чего ходить вокруг да около?
– Это предложение? – тут же игриво уточняет рыжая сучка, а я понимаю, что, если Долгов сейчас согласиться, я просто-напросто здесь вскроюсь. Ибо у меня больше нет сил жить в этом мире предательств, лжи и нелюбви. Пусть между нами практически ничего не осталось, но я все еще чувствую тот дикий, прощальный взгляд и слышу придурковатое, но такое до дрожи необходимое «люблю», и я не готова похоронить их так скоро. Мне страшно, до ужаса страшно получить очередной удар.
Сама не замечаю, как оказываюсь на улице. Дышать трудно, меня знобит с такой силой, будто я голая вышла на мороз. Иду, не разбирая дороги. Мне так плохо, что я ни черта не соображаю. Слез нет, да вообще ничего нет, кроме желания убежать, спрятаться – да все, что угодно, только бы не знать этой боли, только бы не думать, где Долгов проведет эту ночь, и не представлять, как будет эту большеротую трахать. Однако, поздно: воображение, словно взбесившийся конь, уже несет меня в опасные, непроходимые дебри. Они с оттяжкой хлещут изнутри, заставляя сходить с ума от гадких вопросов и предположений.
Трахнет ли он ее сейчас или дождётся ночи? Будет ли шептать ей всю ту похабщину, что шептал мне? Станет ли вылизывать ее с таким же кайфом, как всегда вылизывал меня? Будет ли нежен или тоже нагнет ее над кроватью и отымеет, как оголодавшая зверюга?
Не знаю, до чего бы меня довела фантазия, но тут сильные руки останавливают мой бег, и внутри на короткий миг распускается хрупким цветком надежда.
Да, несмотря ни на что, я все еще хотела банального и вот уж воистину «неизбывно – женского», чтобы догнал, остановил, вернул. Но, обернувшись, встречаюсь с обеспокоенным взглядом Гридаса, и цветок в моей душе сгорает в огне разочарования.
– Ты куда? Что случилось? – спрашивает этот бородач с добрыми глазами.
– Хотела пройтись, – выдавливаю из себя через силу и сглатываю подступившие слезы. Гридас хмурится, явно ничуть не веря.
Вот только мне уже все равно. Наверняка он в курсе происходящего, и я кажусь ему до невозможности жалкой терпилой, с чувствами которой можно не считаться. Обхватываю себя за плечи и, дрожа всем телом от слабости, и температуры, прошу, преодолевая унижение и стыд:
– Можно я переночую в машине.
Гридасик хочет возразить, но я не позволяю.
– Пожалуйста. Я не смогу с ними в одном доме, – шепчу со слезами. Сил на споры и гордость не осталось, я даже не уверена, что смогу дойти до машины, где бы она ни была. У меня все болит. Болит настолько, что я не в состояние отличить, где заканчивается боль физическая, а где начинается душевная.
– Пошли, – накидывает Гридас мне свою олимпийку на плечи и, взглянув в глаза, вдруг заявляет. – Неужели до сих пор ни черта не поняла?
– А что я должна понять? – удивленно вскидываю бровь. Ответ ошарашивает еще больше.
– Если бы он хотел просто бабу, не рисковал бы так и не помчался к тебе прямиком из тюрьмы. Ты вообще понимаешь, что такое побег и как сложно его организовать? Да никакая месть не стоит того, чтобы про*бать свой шанс вырваться из этого гадюшника. Если уж на то пошло, способов отомстить без напряга на жопу хватает. Так что прекращай уже накручивать себя. Я участвовал в организации переездов: и твоего, и его семьи, и знаю, о ком он думал в первую очередь. И уж поверь, не о детях вовсе.
Я не знаю, что ответить на это откровение, а главное, что думать. Внутри сумятица и сумбур.
– Иди уже, Настасья, – тяжело вздохнув, резюмирует Гридасик. – Он месяц провалялся с пробитой почкой, из тюрьмы сбежал, побывал в перестрелке, а впереди еще хрен знает, что. Какие, бл*дь, бабы? Ему бы отоспаться и пожрать, как следует.
Мне хочется съязвить, что очень даже такие – уткнутые лицом в матрас, но мне стыдно посвящать кого-то в этот кошмар, тем более, что он аукается в каждом шаге режущей болью. Надо сказать Долгову, чтобы, наконец, вызвал какого-нибудь врача, но эта мысль улетучивается, стоит подойти к домику и столкнуться с абсолютно нечитаемым, холодным взглядом сквозь пелену сигаретного дыма.
Долгов, облокотившись на перила веранды, задумчиво курит, оглядывая меня с ног до головы. Он кажется расслабленным, но я нутром чую, что под кожей у него закипает бешенство. Замираю в нескольких шагах и, жду, что он обрушит его на меня. Однако, Серёжа неторопливо стряхивает пепел и спокойно, словно у неразумного ребенка, интересуется:
– Проветрила голову?
Отвечать не вижу смысла, поэтому неловко отвожу взгляд. Долгов тяжело вздыхает.
– Иди на второй этаж, там все готово: и ужин, и постель.
Мне много, чего хотелось сказать, спросить, но я снова не смогла. Постыдилась себя, своих реакций, чувств. Поднявшись наверх, не раздеваясь и не включая свет, я забралась под одеяло с головой, и разрыдалась.
Я плакала и плакала, и плакала. От безысходности: от невозможности что-либо изменить и что-то вернуть.
Наверное, в какой-то момент я отключилась. От боли ли, стресса? Черт его знает.
Очнулась от того, что вся горю и в то же время плыву куда-то.
Ничего не понимая, оглядываюсь в кромешной темноте и мне кажется, что меня снова избили и держат в подвале нашего дома, в той проклятой каморке.
Когда дверь в нее приоткрывается, и кто-то тихонько заходит, на меня такой ужас накатывает, что я, словно парализованная, застываю и не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Кто-то ложится рядом, матрас прогибается. Чувствую, как тяжелая, мужская рука опускается на меня поверх одеяла, по взмокшей шее проходится холодок чужого дыхания. Мужчина аккуратно зарывается носом в мои волосы и жадно вдыхает мой запах, а я не выдерживаю, начинаю дрожать и всхлипывать.
– Пожалуйста, не надо, – умоляю лихорадочно. – Я все сделаю. Только не надо!
– Маленькая, я не трону тебя. Я просто…
– Пожалуйста, – захлебываюсь истерикой. – Мой малыш… Не надо!
– Какой еще малыш? – пробивается сквозь вату перепуганный голос Долгова, в следующее мгновение над кроватью загорается светильник, и я вижу бледное, перекошенное от беспокойства лицо.
Долгов оглядывает меня лихорадочным взглядом и тут же прикладывает к моему взмокшему лбу холодную ладонь.
– Да ты вся горишь! – резюмирует он и, соскочив с кровати, откидывает одеяло, да так и застывает, глядя на мои бедра, становясь не просто бледным, а серея на глазах. Меня пробивает озноб и, я съеживаюсь в калачик, наконец, начиная осознавать, где я и что со мной.
– Гридас! – орет меж тем Долгов чуть ли не на всю базу и тут же бросается ко мне. – Настя! Настя, ты слышишь меня? Ты что… ты беременная что ли?
– Вы… вызови мне врача, – все, что могу сказать и снова проваливаюсь в густую темноту, в которую то и дело прорываются обрывки разговора.
– Давай, Гридас, неси ее в машину. Кажется, у нее выкидыш.
– Она что, беременная была? От кого?
– Да откуда я знаю?! Не от меня – точно.
– П*здец!
– Давай, быстрее, быстрее! – слышу нарастающую панику в голосе Долгова.
– Может, давай, я ее осмотрю, чтобы зря не рисковать? – как ни странно, узнаю Большеротую и хочу тут же запротестовать, ибо лучше умру, чем позволю ей лезть ко мне своими наглыми ручонками. Но, к счастью, Серёжа тоже не в восторге от ее предложения.
– Ты разве гинеколог? – осведомляется он резче, чем, наверное, следовало.
– Ну, нет, но…
– Ну, вот и не лезь тогда!
– Просто может, это ложная тревога.
– Она, бл*дь, кровью истекает! Какая ложная тревога?! – чуть ли не орет он. Я чувствую, как меня укладывают на заднее сидение.
– Ты пару часов назад тоже кровью истекал, – продолжает меж тем Большеротая вразумлять Долгова. – И ничего, как-то без больницы обошлось. Хочешь снова в тюрьму? Твои и ее ориентировки по всей России.
– Слушай, Томка, не вынуждая меня грубить тебе. Не суй свой нос, куда тебя не просят, – отрезает Долгов и садится в машину.
– Да ради бога! – бросает Рыжая напоследок. – Хочешь все просрать из-за мокрощелки, которая, мало того, что тебя засадила, так еще и забеременела, не пойми от кого? Вперед и с песней!
Глава 2
«Если бы он мог заплакать или убить кого-нибудь! Что угодно, лишь бы избавиться от этой боли!»
К. Макколоу «Поющие в терновнике»
Вот не зря говорят, обиженная баба злее черта, а недотраханная – хуже фашиста. Томка это подтверждает на ура, продолжая выкрикивать какую-то херню вдогонку.
Я не слушаю, да и мне, если честно, пох*й, кто бы что ни говорил сейчас.
Смотрю на мертвенно – бледное лицо моей красивой девочки: ее ввалившиеся щеки, бескровные губы, и огромные тени под глазами, и меня колотить всего начинает, как припадочного.
Она с каждой секундой все серее и серее, и дышит едва слышно, а я не знаю, что делать, за что хвататься и чем помочь. Просто, бл*дь, не знаю! Глажу ее лихорадочно, сопливо прошу о чем-то, как долбо*б из мыльной оперы, и задыхаюсь от паники, бессилия и дежавю. Кажется, будто мне снова восемнадцать, и я опять ноль без палочки, как тогда, когда Светка-тварь сдала моего сына в детский дом, и я ни хрена не мог сделать.
Я это чувство беспомощности на всю жизнь запомнил и двадцать с лишним лет рвал жилы исключительно для того, чтобы никогда больше, ни на одну гребанную секунду его не испытывать.
В итоге же сижу с миллиардным состоянием и властью, которая восемнадцатилетнему мне и в сказочном сне бы не приснилась, и просто смотрю, как смысл моей еб*ной жизни буквально утекает у меня из рук.
Мне не хочется нести всю эту киношную хуергу, про то, что, если Настьки не станет, то я… Вообще думать об этом «если» не хочу. Да и что я?
Я с того света выкарабкивался с ее именем. И на свободу рвался по одной – единственной причине – к ней, как бы пафосно это ни звучало. Но, когда лежишь в реанимации, жизнь предстает в совершенно иных красках и становиться до смешного простой, и понятной. Все «если» и «но» сразу же отпадают, остается лишь главное.
Моим главным оказалась эта зеленоглазая девчонка. В шаге от того, чтобы откинуться, я убедился в этом окончательно и, мне вдруг стало глубоко похер и на завод, и на двадцать лет вертежа ужом на сковородке в этом сучьем, материальном мире, и что лохом буду и в своих, и чужих глазах, если проиграю Елисеевской кодле – всё стало пустым, тупым и бессмысленным, ибо по-настоящему я нуждался лишь в одном – чтобы моя Настька была рядом. До сбитых об стену кулаков и разрывающего глотку, бессильного рыка хотелось прижать ее к себе и никогда больше не отпускать.
Вокруг творился откровенный п*здец, все летело в тартарары: все планы, здоровье, наработки, а я, словно придурок, таращился в облупленный потолок обшарпанной больнички и думал, как так вообще происходит? Сорок лет себе жил: ел, пил, на работу ходил, трахал кого-то, радовался чему-то, мечтал, стремился и считал, что жизнь вполне удалась, а потом херакс и какая-то соплюшка врывается в нее с воплями через малюсенькую дырку в твоей закостенелой в цинизме броне, и всё… Абсолютно всё начинает крутиться вокруг этого длинноногого недоразумения: все мысли, стремления, мечты – всё вдруг становиться ради нее, а те сорок кажутся безвкусной лажей, несмотря на то, что я люблю свою жизнь и свой богатый по всем фронтам опыт. Однако с Настькой я полюбил жизнь в разы сильнее и как-то так по-особенному, до щенячьего восторга. Поэтому подыхать не собирался, хоть тюремная администрация делала все, чтобы я не выкарабкался, чтоб сломался психологически. Что-что, а это они умеют.
Когда мне прооперировали почку, у них почти получилось. Я смотрел, как местные лепилы накачивают меня всякой херней и лишь делают вид, что лечат, и думал, что мне кранты. Сил бороться ни физических, ни моральных не осталось. Но перед глазами стояла моя, абсолютно непохожая на себя, Настька, и я понимал, что не могу сдаться, пока не буду уверен, что с ней все в порядке.
Я очень много думал о том проклятом заседании, анализировал, прикидывал варианты. И сам не знал, какой из них принять легче. Как ни крути, дело-дрянь. И все же, ох*евая с самого себя и порывов своей эгоцентричной душонки, я понимал, что пусть лучше предаст сама, по собственному желанию из-за злости, обиды, мести… да, чего угодно, лишь бы все у нее было хорошо, лишь бы никакая сука не тронула.
Я готов был стать лохом, которого на*бала собственная баба. Как последний терпила я бы это схавал и не поморщился. Точнее – «поморщился» бы, конечно, все -таки самолюбия у меня через край, но я бы ей простил. Я бы многое, если не все, смог ей простить, чтобы быть рядом. Но вот чего бы я точно не смог, так это смириться с тем, что не уберег, не защитил, не справился. А по всему выходило, что так и есть.
И нет, я не наивный дурачок, верящий в силу любви и привязанности. Я всякого насмотрелся: кидалова разного, лицемерия и п*здежа, что в пору никому и ничему не верить, но я все равно верил. Настьке моей верил.
На каком-то совершенно необъяснимом уровне знал, что моя она, что любит, что не про нее вся эта падлючья дрянь в виде мести и тайных заговоров. Не такая моя девочка. Не такая и все тут! Как бы тупо и смешно это ни звучало.
По временам, конечно, одолевали меня сомнения и приступы ядовитой злости. Я потешался над самим собой.
– Очнись, придурок, – говорил я себе, – так каждый, ослепленный чувствами, соплежуй думает и свято верит, что его зазнобушка не такая. В конце концов, зачем ей – молодой, красивой девке, у которой все есть, нужен ты – немолодой, женатый, похотливый козел, а теперь еще и уголовник?
И честно, я не находил ответ. Будь на ее месте, послал бы такого фраера далеко и надолго. Ну, может в качестве приключения и интересного опыта, конечно, попробовал бы, но не более. С другой же стороны – у меня ведь тоже, если так по большому счету, особых причин цепляться за нее нет. Вон их сколько бегает красивеньких, умненьких, молодых, с искрой и задором, но нет же, только она нужна.
В общем, как ни крутил, не вертел, а все равно, хоть убей, не верил, что была с Можайским в сговоре. Вспоминал каждый ее взгляд, улыбку, ее отклик и истерики, и не верил. Но тогда по всему выходило, что крыса – Зойка, а это тоже вариант так себе, ибо какой резон?
Да, ей могли пообещать какой-то пакет акций дополнительно, но она ведь не дура: понимает, что делиться с ней им ни на одно место не намоталось. Флюгеров вообще нигде не любят и не уважают, а уж скотин, которые собственных братьев кидают, и подавно. С таким реноме пинка получают сразу, как только перестают быть выгодны. А она перестанет ровно в тот момент, как меня вышибут из гонки. Можно, конечно, еще списать на злость и месть, но тоже ерунда получается. Зойка больше топит за деньги, чем за отношения. Хотя, если все же взыграло у нее, охренею я знатно. Я, конечно, всякого хлебнул и иллюзий лишился начисто, но еще ни разу не видел, чтобы кто-то так цинично и холодно трахнул собственного брата per anum. Это же получается, она даже хуже, чем я, хотя с некоторых пор я был уверен, что достиг крайней степени падения.
Нет, не сходился у меня пазл. Зойка, конечно, существо редкой сучьей масти, но не настолько. Да и что я ей, в конце концов, такого сделал, чтобы меня так откровенно ненавидеть? А иначе, как ненавистью такой поворот не обоснуешь.
Размышляя обо всем этом, я едва на стены ни лез от неизвестности. За Зойкой следили, но ничего подозрительного замечено не было. От Гридасика тоже новостей никаких. Он все не мог выйти на Настькину мамашу, точнее – она демонстративно не шла на контакт, несмотря на угрозы опубликовать новость о ее прошлом и предложении о хорошей сумме денег.
Я ни хрена не мог понять в этой клоаке. Жанна Можайская, хоть и была той еще мразёвкой, а все же на конченную тварь не тянула и, если бы дочери угрожала опасность, наверное, пошла бы на сделку, понимая, что мне нет никакой выгоды от Настьки, а значит мои мотивы вполне понятны. Но то ли ее запугали до потери сознания, то ли нет никакой нужды в моей помощи, и я в самом деле просто влюбленный полудурок, потерявший связь с реальностью.
Каждый день меня мотало из стороны в сторону от предположений и вариантов развития событий, пока за неделю до побега ко мне на свиданку не заявилась Зойка.
– Вижу, ты совсем охерела, – насмешливо резюмирую, глядя на сестрицу через стекло в комнате для свиданий. Меня колошматит от слабости и телефонная трубка кажется неподъемной, но я старательно делаю вид, что все в порядке, хоть мой видок наверняка говорит сам за себя.
Зойку, конечно же, так просто на понт не возьмешь, поэтому она недоуменно приподнимает бровь и спокойно уточняет:
– И почему же я вдруг охерела?
– Да брось, думаешь, я совсем дурак? – смеюсь через силу, пристально всматриваясь в ее лицо, в который раз жалея, что в свое время не взял уроки у грамотного физиогномиста. Сейчас не гадал бы, что да как, а с точностью в девяносто процентов знал, почему она до побелевших пальцев сцепила руки в замок: проблеск ли это сопереживания, страх ли выдать правду или какие-то неприятности на заводе?
Теперь же остается только смотреть и размышлять: всегда ли она так старательно тянула короткую шейку и держала ли ровно путем неимоверных усилий сутулую спинку? Поджимала ли так густо – накрашенные губенки, и читалось ли в глазах это напряжение? Как ни стараюсь, но ни хрена понять не могу. Интуиция, придушенная родством и привязанностью, тоже растерянно помалкивает.
С одной стороны, Зойка, которую я знаю, никогда бы не стала столь по-сучьи крысить. А с другой – на опыте я не единожды убеждался, что никто никого по сути и не знает. Хорошо, когда ты в каком-то смысле удобненький и взять у тебя особо нечего, тогда и люди не шибко удивляют, и жизнь идет размеренно и ровно. Я никогда удобненьким не был, а поиметь с меня можно дай бог, поэтому и жить размеренно и ровно у меня не получалось: вечно кто-то преподносил «сюрпризы». Но сейчас, несмотря на все уроки, я все еще, как наивный дебильсон, надеюсь, что в отношении Зойки обойдется без них.
– Ну, и сколько тебе пообещали за слив? – продолжаю брать ее на понт.
– Серьезно? – вырывается у нее смешок, но отнюдь не возмущенный, а какой-то такой задушенный, злой.
– Да ладно, Зой, хорош уже корчить из себя розу среди лопухов.
– А оно мне надо, Серёж? – складывает она губенки в снисходительной улыбке. – Мы с тобой уже точки над «i» расставили, поэтому смысла оправдываться и казаться хорошенькой, я не вижу. Меня просто бесит, что какой-то прошмандовке…
– Следи за языком, – сдерживая усталый вздох, прошу ее вполне спокойно.
– Не хочу и не буду! – вскипает она, будто только и ждала подходящего момента, чтобы выплеснуть все, что накопилось. – Уж извини, но мне надоело. С тех пор, как появилась эта девка, ты только и делал, что затыкал мне рот. И вот, к чему это привело, – она красноречиво кивает в мою сторону. Хочу возразить, но Зойка жестом прерывает. – Да знаю я все, что ты скажешь, можешь не утруждаться. Меня уже даже не удивляет, что крайние все, кроме твоей Настеньки. Вы – мужики, когда влюбляетесь, теряете напрочь мозг и вам становиться плевать даже на собственных детей, что уж говорить про сестер и жен. И не говори ничего! – снова отмахивается она от меня, не давая вставить ни слова. – Бог с ним! Если тебе так легче – пребывать в собственных иллюзиях, пожалуйста! Пусть я буду тварью распоследней, а она – верной Пенелопой, ждущей своего Одиссея. Мне не жалко, просто обидно. И не за себя вовсе, а за тебя. В конце концов, как бы там у нас с тобой ни складывалось, ты – мой брат. И когда из тебя лоха делают, у меня вот здесь все горит, наизнанку выворачивается.
Она с жаром бьет себя в грудь, а у меня в горле образуется ком. Здесь – в тюрьме, несмотря на то, что ты никому не веришь и вообще похож на загнанного в угол зверя, даже крошечная эмпатия вызывает бурю в душе.
– Ты можешь, сколько угодно думать, что это я слила им наш телефонный разговор. Можешь верить, что она с тобой была по любви и ее заставили выступить в суде, и прочее. Ради бога! Тешь себя, чем хочешь, но не позволяй пользоваться твоими слабостями. Подай на апелляцию и в суд за ложные свидетельские показания. У тебя ведь везде в домах камеры, ты в два счета докажешь, что никакого насилия не было, и все, что наговорила твоя Настенька – вранье чистейшей воды.
– Не лезь, куда тебя не просят, – цежу сквозь зубы на голом упрямстве, потому что внутри черте что, особенно, когда Зойка продолжает забираться мне под кожу.
– А я буду лезть, Серёж, хотя бы в память о маме. Понимаю, ты влюбился до соплей, все мы когда-то так влюбляемся. Но ты ведь не дурак, знаешь, что все проходит. И это пройдет, Серёжа, уже прошло. На вот, полюбуйся, как твоя Пенелопа «днем ткет саван, ночью распускает», при этом прекрасно зная, что ты лежишь в реанимации и борешься за жизнь, – она достает из сумочки стопку фотографий и медленно раскладывает их на полочке перед стеклом. Я еще ни хрена толком не успеваю понять, просто смотрю жадно на мою Настьку.
Красивая она. Ох*енно красивая. Мне кажется, я ее такой красивой никогда не видел. Чувство, будто сияет изнутри. Она снова поправилась, но это тот случай, когда килограммы не портят женщину, а делают еще более манкой, сексуальной, цветущей. Если раньше секс в ней можно было обнаружить, только приглядевшись, то теперь он бил ключом из каждой черты ее лица и изгиба тела.
Я жру ее взглядом, как оголодавший, как долбанный фанатик и схожу с ума от невозможности прикоснуться. Но постепенно, помимо нее, начинаю различать фон и происходящее. Внутри все натягивается, как тетива перед выстрелом, когда, наконец, замечаю рядом с ней явно поплывшего Елисеева.
Он не сводит с нее похотливых глазенок, она же на одном из фото кокетливо улыбается ему, на другом заливисто смеется, на третьем – они о чем-то шепчутся, а на четвертом – я получаю удар под дых. Тот, кто фотографировал, сидел на ярус ниже столика Елисеева, и на фото отлично видно, что происходит под ним: рука этого у*бка уверенно устроилась на Настькином бедре и, судя по выражению ее лица, она очень даже не против – спокойно, с улыбкой что-то говорит этому козлу, словно между ее ног его лапе самое место.
Сам не замечаю, как подскакиваю со стула, и он с грохотом валится назад. Дежурный тут же стучит по стеклу, призывая к порядку. Вспомнив, где я, поднимаю руки в примирительном жесте и сажусь обратно. Меня рвет на куски, кипит все, бурлит, как в плотно – закрытом, раскаленном докрасна баке. Я ни хрена не могу проанализировать, обдумать, прикинуть, словно мне по башке шарахнули.












