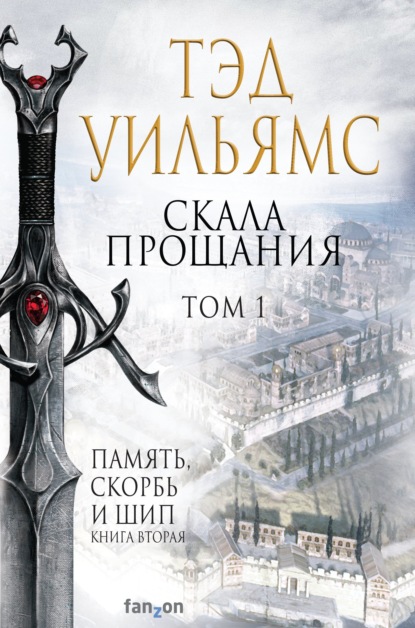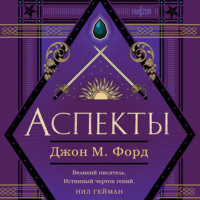Полная версия
Дракон не дремлет
– Я. Я… колдун.
Дафидд напрягся еще сильнее. Нэнси тронула его запястье, и он расслабился… нет, обмяк, как будто умирает прямо сейчас, на этом стуле.
– Твой дядя, – слабым голосом проговорил он.
– Мой дядя был колдуном?
Дафидд никогда не говорил о родных Хивела, кроме того, что все они погибли в бою.
Нэнси сказала:
– Твоя бабка была сестрой Оуэна Глендура.
Просто сказала. Будто в этом нет ничего особенного.
– Послушай, Хивел… сынок, – хрипло, устало проговорил Дафидд. – Глендур заключил союз с византийцами. Они присылали колдунов, воинов. Обещали Оуэну, что помогут освободить Уэльс. Он доверял им… а доверие Оуэна заслужить было нелегко, я знаю.
Он отпил еще бренди.
– Не знаю, правда ли они собирались помочь… или собирались, а потом передумали… или просто честно проиграли, но суть в том, что они поддержали Оуэна. И Оуэна нет. А Империя есть. Задуши меня Огмий, если я с открытым сердцем привечу английских воинов. Суцелл размозжи мне голову, если я склонюсь перед английским королем, но если они хотят отрубить голову этому колдуну, то могут взять мой топор и пусть Эзус благословит удар.
На сей раз Хивелу заплакать не грозило, даже при всей его усталости. Он понял наконец, кому может доверять.
Никому. Ни единой живой душе.
Не проронив больше ни слова, он пошел к своей лежанке, сел, стянул башмаки и провалился в сон.
Змеи обвивали Хивела, сжимали его руки и ноги, силились свалить его и задушить.
В руке у него был меч – белый меч сиял в обступившей тьме. Змеи отворачивали клыкастые головы от света за миг до того, как Хивел их отрубал.
Замах, удар, и левая нога свободна; удар, и свободна правая. Быстрые удары, словно рубишь почки для пирога, и куски змеи, извиваясь, упали с его левой руки. Однако они по-прежнему обвивали правую, пережимая кровь, царапая чешуей кожу.
Свет вспыхнул на рукояти у Хивела за поясом. Он левой рукой выхватил кинжал. Правую тянула к земле переплетенная зеленая масса. Он приставил лезвие и содрал змею, как сдирают шкурку с убитого кролика, даже не задев голую руку.
Шею тянуло назад. Самая большая змея, черно-зеленое чудище в ярд длиной, обвивала Хивелу горло. Показалась узкая головка, заглянула черными глазами в глаза Хивелу, обнажив клыки, точно кривые кинжалы. На каждом клыке висела капелька яда, кипящего и алого, будто кровь.
Хивел обрушил меч и кинжал разом, поймав змеиную голову в скрещение клинков. Горло стиснуло сильнее. Глаза лезли у Хивела из орбит, воздуха не хватало. Он опустил оба клинка. Дымящаяся кровь бежала по его рукам, обжигая кожу. Полуотрубленная змеиная голова повернулась и выбросила раздвоенный язык – лизнуть Хивелу губы.
Хрустнула кость, голова отлетела. Чешуйчатое тело билось в судорогах, стискивая Хивелу шею, и он думал, они умрут вместе. Тут он бросил клинки, потянул за внезапно обмякшие кольца и обрел свободу…
Хивел проснулся в холодном поту. Руки лежали как плети, он мог ими двинуть, но слабо, медленно. Он потрогал пах: нет, не это. Как будто он плыл, лежал на воде, пока мышцы не разучились работать…
Те же ощущения, что после колдовства.
Он попытался встать, но не смог, и ему стало страшно; чем больше усилий он прилагал, тем хуже у него получалось двинуться и тем сильнее он пугался. Ему случалось видеть загнанных лошадей: все в пене, они бились и дрожали на земле, прекрасные животные, превращенные бездумным ездоком в умирающее нечто с жутким взором.
Кое-как Хивел натянул башмаки, встал. Все вокруг плыло, вращалось и завывало в ушах.
Через мгновение он понял, что часть света и шума ему не мерещится: факелы и крики воинов во дворе.
Появился Дафидд в шоссах и рубахе, со светильником, заправленным рыбьим жиром. Пламя дрожало и распространяло вонь.
– Ты здесь, – проговорил Дафидд. – Что ж, и то хлеб.
– А что…
– Колдун сбежал. Вырвался не пойми как. – Дафидд оглядел Хивела с ног до головы и спросил очень тихо: – Это ты его освободил?
– Нет, – ответил Хивел и, еще не договорив, понял, что солгал.
Дафидд кивнул:
– Само собой. Извини, сынок. Я…
«Испугался», – мысленно закончил Хивел.
– Твой дядя Оуэн был… – Дафидд вновь не договорил. Он вытер свободную руку о край рубахи и вышел.
Хивел дождался, когда затихнут его шаги, и принялся набивать сумку вещами из сундучка. Потом надел лучший плащ и тихо-тихо вышел во двор.
Десятский кричал, пытаясь выстроить своих людей и решить, как прочесывать местность. Мелькали фонари, желтовато поблескивала сталь. Воины притоптывали, выдыхая морозный пар. Хивел плотнее закутался в плащ и выскользнул незаметно.
Он не знал, как искать Птолемея. Идет тот в горы, или вниз по реке, или по дороге, прячась в стороне от прохожих?
Хивел остановился и замер.
«По долине, – подумал он, – к Аберконуи и дальше к морю. Корабль, любой корабль из этой гнусной страны…»
Хивел заморгал; это были не его мысли, хоть и звучали у него в голове.
– Как свет от свечи, – беззвучно проговорил он и подавил смешок.
Эту часть Диффрин-Конуи он знал лучше любого английского воина. И он отыщет Птолемея. Пойдет, куда зовет дар.
Очень скоро Хивел замерз. Одежда заледенела, и даже слабый ветерок пробирал до костей. Знакомый край ночью сделался чужим, лунные тени скрывали неведомые бездны. Ни огня, ни фонаря у него не было. Только свет Птолемеевой свечи.
Если стоять совсем неподвижно и думать очень сосредоточенно, он вроде бы различал свет, медленно пляшущий над кустами и камнями впереди. «Эльфийский огонек», – подумал Хивел и очень явственно представил, как идет за блуждающим огоньком, а когда возвращается, то видит, что прошли долгие годы: все, кого он знал, давно умерли. Однако он вернется колдуном.
Ему было жаль, что он больше не увидит Нэнси и Дафидда, Дая, и Глинис, и Анни. Он положил руку на раздувшуюся сумку и пожалел, что не взял с собой и другие вещи: оловянную тарелку, на которой Шон Маур выбил имя «Хивел», шерстяной свитер и шарф, которые смастерила ему Анни, когда Нэнси учила ее вязать, – кривые, но теплые. Сейчас бы они очень ему пригодились. И с дворовым псом было бы веселее идти, пусть даже тот старый и ни на что не годный.
Однако вещами нужно жертвовать. Это как приношения на алтарь, когда просишь Огмия помочь тебе с обучением грамоте или Эзуса – благословить дерево, которое рубишь. Обратно их не получишь. Если обманешь богов, они возненавидят тебя и проклянут навеки.
И во всех историях колдунам и героям требовалось… требовалось…
Искупление. Вот оно, это слово. Хивел возблагодарил за него Огмия. Затем остановился и достал из сумки стеклянный камешек Мередидда ап Оуэна. Пальцем выкопал ямку, положил туда шарик, присыпал землей. Хивел не сомневался, что жертва правильная, памятуя грека, который говорил с камешками во рту.
Свет, голос – то, за чем он шел, – усиливался, как будто Каллиан Птолемей остановился. Возможно, колдун упал, повредил ногу. Хивел не знал, что делать в таком случае, разве что Птолемеево колдовство способно исцелять. Наверняка способно – такое даже деревенские бабки умеют! А вдруг – Хивел почти не смел об этом думать – вдруг Птолемей задержался, чтобы Хивел его нагнал.
– Да, – отчетливо произнес голос Птолемея чуть впереди. – Я жду. Поспеши, Хивел ап Оуэн.
Вздрогнув от голоса и от имени, которым Птолемей его назвал, Хивел выбрался в ложбинку на склоне холма. Здесь, озаренный лунным светом, сидел Птолемей.
– Ты принес мне поздний ужин, мальчик? – Он говорил по-валлийски, первый раз.
Хивел подошел ближе и встал на колени.
– Прошу вас, сэр… я пришел, чтобы идти с вами. В Константинов град, если вы туда. Быть вашим учеником.
– Чепуха, – отрезал Птолемей.
– Милорд, сэр. – Хивел пытался говорить разом дерзко и почтительно. – Вы сказали, я могу быть колдуном. Я желаю им стать.
– Зачем? Потому что тебе нравится такая жизнь? Увлекательные приключения? Цепи, грязная солома, и чтобы воины плевали тебе в лицо? – Птолемей посмотрел в землю и покачал головой. – В Ирландии не чтут Тота; может быть, он туда не заглядывает. Он покинул меня, тут сомнений нет. – Колдун поглядел на Хивела; его лицо было наполовину освещено луной. – Я отправился туда ради целей Империи. Но я ел их еду, пил их виски, жил в их домах и спал с их женщинами… и однажды понял, что сражаюсь в их войне. Со временем я полюбил этих… варваров… настолько, что перестал творить колдовство, которое может обернуться им во вред… то есть, по сути, любое колдовство… И вскоре английские воины заковали меня в железо. Ты не понимаешь ни слова из того, что я говорю, мальчик?
Хивел на коленях подполз ближе.
– Я освободил вас, милорд Птолемей.
– Эту фразу я слишком часто слышал в Ирландии, – сказал Птолемей. – Если когда-нибудь доберешься до Византия, никогда не произноси этих слов, коли ценишь то, что зовешь свободой. Освободить кого-либо – высший человеческий акт. И в Городе знают разницу между актерами и режиссерами. Эта разница – сердце и мозг Империи. В этой стране, как мне хорошо известно, полно актеров, и ни один не пришел мне на помощь, как и бог Тот, которому я поклоняюсь.
– Византийцы, как вы… здесь, милорд, сэр? – Хивел вспомнил слова Дафидда о Глендуре и византийцах.
– Британия же не часть Византии, верно? Для того они и здесь, чтобы это изменить. Как я был в Ирландии, пока не сделался бесполезен для моих режиссеров.
– Если вы не хотите учить меня, сэр, то хотя бы возьмите с собой в Город. Я вас освободил…
– Конечно, это бесполезно, – устало произнес Птолемей. – Ты толком не понимаешь, что у тебя есть душа, и поэтому не осознаешь опасности для нее. А если бы и осознавал, все равно не мог бы отказаться от своей силы. Интересно, есть ли сила, от которой человек способен отказаться. Старый Клавдий пытался отринуть божественность и не сумел…
Птолемей опустил голову на руки и сразу поднял.
– Все бесполезно. Если бы я изменился в Ирландии, я бы тебя и не позвал. Просто дал бы бросить меня в море и благословлял их, пока тону. И тот грубый лучник был прав, ты соблазнительный мальчик. Иди сюда, ученик.
Хивел встал. Птолемей тоже поднялся с земли. Лицо колдуна полностью скрыла тень. Он взял Хивела за шею и заговорил на чистом, безупречном валлийском:
– Клянешься ли ты, Хивел Передир ап Оуэн, всеми богами, которых чтишь, что будешь внимать моим урокам со всей сосредоточенностью, запомнишь каждый от начала до конца и никогда не забудешь?
– Клянусь, – ответил Хивел и сам удивился пронзительности своего голоса.
Птолемей продолжал холодно и бесстрастно:
– Тогда вот тебе урок о природе чародейства и колдунах, истина о всей когда-либо сотворенной магии.
Он стиснул Хивелу шею так, что тому стало больно. Хивел дернулся было, но понял, что не может шевельнуться. Указательный палец Птолемея светился в ночи, красный и горячий, как раскаленная кочерга. Глаза Хивела расширились, и он, как во сне, не мог их закрыть.
Огненный палец пронзил ему глаз, шипя, словно атакующая змея.
Глава 2
Галлия
Димитрию дуке было десять, когда византийский император назначил его отца наместником пограничной провинции. Этот день навсегда врезался в память Дими: яркий солнечный день за окнами семейной виллы, эгейская синева внизу, ветерок, благоухающий морем и оливковыми рощами.
Отец дал ему подержать императорский приказ. Дими запомнил внушительность тяжелого документа, красную восковую печать на пурпурной шелковой ленте. Печать пахла корицей; на ней был портрет императора с большим носом и маленькими глазами (а может, печатка плохо оттиснулась на воске) и год от основания Города: 1135-й.
Была и другая печать, поменьше, золотистого воска. На ней было оттиснуто что-то трехлучевое – отец сказал, это «цветок Галлии», – и надпись: «300-й год Разделения».
Лучше всего Димитрий помнил родителей. Отец, Косьма, стоял в косом свете атриума, в свободной домашней одежде, и походил на Аполлона.
– Я буду стратигом Запада. Это честь. Провинция важная: восточная часть старой Provincia Lugudunensis, которую галлы называют Бургундией. Нашей столицей, – тут он посмотрел Дими в лицо, – будет Алезия.
Если Косьма Дука был Аполлоном, то мать Дими, Ифигения, – богиней Герой.
– Галлия?! Как ты можешь называть это честью, когда прекрасно знаешь, что это такое? Императоры Палеологи по-прежнему боятся Дук; им мало, что они отняли у нашего рода престол. Теперь они избавляются от страхов, избавляясь от нас – отправляют последних Дук умирать в холоде и дикости. Если нас не убьют одетые в штаны варвары, то прикончит чума… Нас отсылают, чтобы мы не вернулись!
– Так повелел мой император, – ответил Косьма.
– Император? Узурпатор! Ты больше император, чем он. Ты, Дука…
Спор продолжался долго – не один час, помнилось Димитрию, хотя, возможно, память растянула время. «Алезия, – думал он, – Юлий Цезарь…»
В конечном счете и отец, и мать оказались правы, каждый по-своему. Дуки отправились в Галлию, и никто, носящий эту фамилию, не вернулся в Грецию.
Димитрий первым перевалил через холм. Он обернулся, убедился, что никто его не видит, приник к лошадиной шее и словами погнал кобылу в легкий галоп.
«Иногда нужно пускать в ход шпоры, сынок, – говорил Косьма Дука, – но помни, ты направляешь голосом и телом, не металлом».
Дими уже порядком проскакал вниз по долине, когда на гребне показались его спутники; он услышал их крики, недовольное ржание коней и, наконец, стук копыт далеко позади. Он рассмеялся и шепнул белой Луне под ним: «Мы накормим их пылью перед ужином, милая».
По обе стороны от него проносились бесконечные ряды зеленых лоз на деревянных колышках. Крестьяне в деревянных башмаках и широкополых шляпах кланялись наместничьему сыну в блестящем доспехе из стальных полос.
Сзади – ближе чем Дими ждал – стучали копыта. Он обернулся. Его нагоняла серая в яблоках. Черные волосы всадника струились на ветру, и его широкую ухмылку можно было различить даже с такого расстояния.
Димитрий рассмеялся и помахал. Ну конечно Шарль. Только Шарль мог почти его нагнать.
– Но ближе мы его не подпустим, Луна, – сказал Дими. – Теперь во весь опор, милая.
Луна устремилась вперед, быстрая, как белое облачко в синем небе.
Впереди грунтовая дорога выводила на мощеную имперскую.
– Довольно, Луна, – сказал Дими. Он берег лошадь и к тому же знал, что не стоит без веской причины нестись галопом по имперской дороге, пугая честной люд.
Луна перешла на шаг в тот миг, как ее копыта коснулись плит. Тут Дими услышал топот слева, чуть позади, и повернулся в седле.
Шарль, привстав в стременах, несся прямо на него. Дими закричал, Луна шагнула вбок; француз развернул лошадь под острым углом. И прыгнул.
Димитрий позволил стащить себя с лошади, и они с Шарлем покатились в придорожной пыли. Пока Шарль силился прижать к земле его плечи, Дими просунул ногу ему под колено, уперся другой ногой и перекатился вместе с навалившимся сверху Шарлем; потом коленом придавил ему грудь и чиркнул большим пальцем по горлу друга.
Шарль, отдышавшись, рассмеялся.
– Ave, Caesar, – сказал он, – morituri salutandum.
– Ты уже мертвый, – ответил Дими, но тоже со смехом.
Он встал и поднял Шарля. Оба отряхнули друг с друга пыль. Лошади смотрели на них.
Вскоре подъехали и остальные, все мальчишки, сверстники Дими: долговязый Робер, шумный Жан-Люк, тихий Леон, близнецы Реми, совершенно не похожие друг на друга – Ален волосатый и коренастый, Мишель маленький и ловкий, как цирковой карлик. Они, как и Шарль, были в кожаных дублетах и льняных рубахах, подпоясанных пурпурными шелковыми кушаками, которые Дими стащил из материного шитья. Все они были его преторианцы, его cohors equitata[14].
– Кто выиграл? – спросил Жан-Люк по-французски. – Если бы не доспехи Дими, мы бы вас не отличили.
– Да и доспехи были все в пыли, – добавил Робер.
Шарль сказал:
– Скачку – я.
– Как кантабр! – закричали все, и Дими тоже.
– А бой – Димитрий.
– Как Цезарь!
Шарль и Дими вновь забрались на коней, и когорта рысью двинулась по имперской дороге в город, через Озренскую долину. Впереди вздымалось Алезийское плато в тысячу триста футов высотой, холмы вокруг него таяли в летнем мареве. Солнце отражалось от гелиостата на вершине плато. Новая империя воздвигла город на месте триумфа старой. Здесь, в Алезии, Верцингеториг сдался божественному Юлию. Слева от Дими была гора Реа, на которую сам Юлий вместе с телохранителями въехал с подкреплением для поставленных там когорт… как ехал сейчас Димитрий.
Перед городскими воротами они пустили лошадей шагом. Стражники в бронзовых доспехах и алых плащах, с золочеными копьями, украшенными орлами, приветствовали наместничьего сына. И Дими, и его товарищи приосанились, проезжая мимо.
Вдоль улиц стояли деревянные и глинобитные дома, крытые дранкой, черепицей и даже свинцом, ибо Алезия процветала; два самых богатых винодела и еврейский банкир недавно начали возводить себе особняки из камня, добытого в Лугдуне на юге – Лионе, как называют его французы. Улицы были такие широкие, что две телеги могли разъехаться, не заставляя пешеходов тесниться к домам; канавы по их сторонам текли в подземные канализационные туннели. Пахло готовкой, стружкой, каменной пылью и конским потом, но не выгребными ямами, как в провинциальных городках.
Над трубами горшечников завивался белый дымок. На крышах стояли бочки и корыта для воды – это придумал один из инженеров Косьмы Дуки. Если случится пожар и крыша прогорит, бочка или корыто опрокинется и потушит огонь. Опыты на игрушечных моделях разочаровали, но кто-то указал, что маленький домик сгорает быстрее настоящего, а в игрушечной бочечке воды несравнимо меньше – объем увеличивается как куб линейных размеров. Когда инженер предложил построить и сжечь настоящий дом, Косьма разрешил ему с согласия горожан поставить бочки на крыши и ждать эмпирического подтверждения.
Когда отряд проезжал мимо жилища Жан-Люка, тот придержал лошадь. «Ave atque vale»,[15] – сказал он, и остальные тоже с ним попрощались. По одному (по двое в случае братьев Реми) друзья сворачивали к своим домам; к подножию Монт-Ализ и воротам наместнического дворца подъехали только Димитрий и Шарль.
– Я заметил, что мы миновали твой дом, – сказал Дими, стараясь говорить беспечно.
– Спроси отца, – ответил Шарль. – Спроси его сегодня, Дими.
– Почему сегодня? До декабря еще полгода.
– Ты разве не хочешь его спросить? – Шарль уже не смеялся, даже улыбка исчезла с его лица.
– Хочу, – ответил Дими, а про себя подумал: «Я не хочу услышать “нет”, а пока я не спросил, он не может отказать». Он взглянул на солнце и помолился, чтобы его опасения не проступили на лице. – Тогда пошли со мной.
– Что? Нет, я… я загляну к тебе завтра. – И Шарль цокнул языком, развернул серую в яблоках лошадь и поскакал по улице быстрее, чем разрешено в городе.
Димитрий понял, что друг боится не меньше его, и от этого все – даже сам отказ – вдруг встало на свои места. Он проехал в дворцовые ворота и отправился искать отца.
Мать в переднем зале разглядывала образцы ковров, разложенные под высокими окнами. Когда Дими вошел, Ифигения Дукиня разговаривала с купцом; он был в шелковых чулках и капюшоне с длинным шлыком. Говорил он с португальским акцентом. Домашний переводчик стоял у хозяйки за спиной и внимательно слушал.
Димитрий подождал, когда в разговоре возникнет пауза. Ему было интересно, не знает ли купец чего-нибудь о новых землях, открытых Португальской империей по другую сторону Западного океана, однако спросить, конечно, было бы невежливо. Во всяком случае, мать сочла бы это невежливым. Наконец он сказал:
– Где отец?
– На строительстве. Что ты делал?!
– Катался верхом, матушка.
– Где катался – в городской канализации? – Ифигения сузила глаза, и Дими понял, что она скажет дальше. – С этими… галлами, полагаю.
«Французами, матушка», – мысленно поправил Дими, но отвечать смысла не было.
– Лучше бы ты проводил больше времени с ромейскими мальчиками. Ты их прирожденный вождь, они тебя почитают. А галлы просто заискивают перед тобой в надежде на милости.
Разумеется, все обстояло ровно наоборот.
– Ромеи – сыновья писарей и будущие писари, – Дими смотрел матери в лицо. – И евнухи.
Последнее слово решило все – для Ифигении оно прекращало любые споры. Евнух мог достичь любого высокого поста в Империи, кроме одного, мог получить любой титул, кроме императорского. Многие знатные отцы холостили сыновей ради будущей безопасности, чтобы император не боялся их как возможных узурпаторов.
Однако узурпация – всегда называемая «реставрацией» – занимала все мысли семейства с тех самых пор, как три века назад был низложен последний император Дука. Ифигения Дукиня, выходя замуж, могла бы сохранить собственную почтенную фамилию, однако она целиком отдала себя мечте. Упомянуть кастрацию при ней или Филиппе, дяде Димитрия, значило напомнить, что мечта эта может умереть.
Наступила тишина. Ифигения ногтями теребила лежащий у нее на коленях ковер. Португальский купец был вежливо глух и нем. Переводчик, сам евнух, стоял тихо, на его младенчески-пухлом лице застыла слабая улыбка.
– Извините меня, матушка, и вы, сударь. – Димитрий отступил на шаг.
– Вымойся перед ужином.
– Конечно, матушка. – Он вышел.
Над старым дворцом вставал новый: выше, больше, величавее и более византийский, со сложными сводами и контрфорсами. Легион работников ползал по склону холма, копая, передавая, укладывая и выверяя. В воздухе мешались известка и опилки.
Косьма Дука стоял у недостроенной стены и беседовал со своим главным военным инженером. Говоря, он водил руками, рисуя дворец в воздухе. Оба были в пропыленных белых плащах, латных нагрудниках, высоких поножах и простых стальных шлемах с прямоугольником ткани, защищающим шею от солнца. Косьма повернулся, и на его груди блеснул золотой имперский орел.
– Отец!
– Иди сюда, сынок!
Димитрий поднялся по насыпи.
– Ну, Тертуллиан, – обратился Косьма Дука к инженеру, – как он тебе?
Тертуллиан был шире в плечах, чем Косьма, мускулистее, но не так высок ростом.
– Я бы взял его к себе, как только…
Димитрий без труда угадал конец фразы. Для того он сюда и пришел.
– Клянусь кровью Быка, Тулли, я это знаю. И Карактак бы его взял. Мне надо решить, кем он лучше будет командовать – инженерами или конницей?
Тертуллиан помолчал, впрочем, совершенно спокойно.
– Я слышал, у него хорошо со счетом. И сколько я гонял его со строительства, вижу, он может быть на участке и не убиться.
Косьма скрестил голые руки поверх золотого орла и медленно кивнул, глядя сыну в лицо. Отчасти Димитрия злило, что его обсуждают, словно годовалого жеребенка или девицу на выданье, но, с другой стороны, он знал, что может избрать любую военную стезю, и гордился, что отцу это известно.
Тертуллиан сказал:
– У меня лишь одно сомнение, стратиг.
Косьма перестал кивать, но лицо его не изменилось.
– Да?
– Осада – дело долгое, стратиг. Даже пушки отгрызают от нынешних стен лишь мало-помалу. Глядя на мальчика сейчас, я не знаю, хватит ли ему терпения на рвы, валы и нужники.
Косьма рассмеялся так громко, что некоторые работники обернулись.
– Клянусь моим клеймом, Тулли, теперь я понимаю, отчего инженеров меньше, чем полководцев, и ценятся они выше. Иди сюда, Дими. Сдается мне, быть тебе полководцем. Здесь будет кабинет наместника, прямо где мы стоим. Вот с этим видом в большое окно.
Вид на город был великолепен: слияние трех долин, густая зелень виноградников. И расположение продуманное – на западной оконечности плато. Окно не ослабит оборону дворца, если только противник не умеет летать.
– Итак, сынок. Какие у тебя новости?
Димитрий вновь повернулся к отцу. Тертуллиан молча отступил на шаг.
– Я хотел спросить… – Не отводи взгляд, не смотри в землю, говори прямо. – Про посвящение в мистерии.
– Дими, сам император не может ускорить приход декабря.
– Владыка да напомнит ему об этом, – тихо проговорил Тертуллиан.
Димитрий мотнул головой.
– Я хотел… то есть Шарль хочет пройти посвящение. Стать вороном вместе со мной.
Косьма посерьезнел.
– Это Шарль придумал, не ты? – Косьма произносил имя правильно, «Шарль», не «Карл», как другие ромеи.
– Он, отец.
– А его семья поклоняется Митре либо Кибеле?
– Нет, отец. Шарль говорит, они никому особо не поклоняются, только богине Секване, когда болеют. И божественному Юлию. И Клавдию тоже.
– Можно мне сказать, лев? – произнес Тертуллиан.
– Я слушаю тебя, перс.
Дими на мгновение удивился, поскольку инженер точно не был уроженцем Персии, потом сообразил, что они называют друг друга титулами четвертого и пятого ранга мистерий: Leo и Perses. Неожиданностью было, что Тертуллиан стоит выше отца, но Дими надеялся, что сумел не выказать удивления.