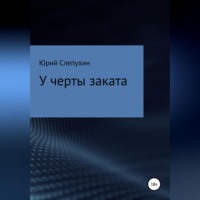Полная версия
Пантократор

Юрий Слепухин
Пантократор
Уже подойдя к автомобилю, он вдруг против обыкновения помедлил и остановился. В свите тоже застыли, от неожиданности наталкиваясь друг на друга; генерал с бычьим затылком – начальник личной охраны – весь сжался, холодея в испуге и преданности, ничего еще не успев сообразить, но уже убежденный в каком-то роковом значении этой внезапной и непредусмотренной заминки, готовый ринуться, заслонить Хозяина своим телом – как уже сделал однажды, когда возле Боровицких ворот (в самую последнюю минуту, лимузины уже шли на выход!) справа, из-за Манежа, неведомо как миновав оцепление, выкатилась какая-то шальная «эмка» – и он, тогда еще простой лейтенант внутренних войск, не задумываясь, бросился под колеса – остановить гада, не дать выехать на запретную полосу…
А тот, за кого готов вторично рискнуть жизнью начальник охраны – точно так же, как готовы были умереть и уже умерли многие миллионы других людей, – он остановился просто потому, что ему захотелось подышать свежим воздухом, проветрить легкие после душноватого кабинета. Здесь, снаружи, хорошо пахло дождем и мокрой сиренью, и свежей землей от газона, где изумрудно зеленела трава в свете ярких фонарей, еще не совсем привычных после четырех лет затемнения.
Был уже поздний вечер, подсвеченное городскими огнями небо потускнело – Москва отходила ко сну. Жаль, что погода выдалась ненастной; он вспомнил начало этого долгого и утомительного дня – как, колебля шеренги штыков и касок, под гремящее «Славься» проходили по площади сводные полки фронтов, как глухо и грозно рокотали барабаны и на мокрую лоснящуюся брусчатку падали германские знамена – пестрые клочья цветной парчи и шелка, тусклое золотое шитье, гербы и эмблемы и колючая готика чужих девизов, лакированные древки, перевитые шнурами, окованные в серебро, увенчанные лавровыми венками и распростертыми орлиными крыльями, – десятки и десятки фашистских знамен, числом ровно двести, ложились к его ногам кучей разноцветного тряпья, а барабаны грохотали безостановочно и зловеще – как в старину при публичных казнях…
Он усмехнулся, подумав о том, что четыре года назад некий господин Гитлер собирался устроить на этой площади свой «парад победы». Удивительно все-таки несерьезный был человек. Почему его так боялись? Шавка, возомнившая себя львом, баран в барсовой шкуре. Удивительно.
Пряча в усы недобрую усмешку, он шагнул к машине. Некто безликий, стремительно возникнув сбоку, рванул настежь заднюю дверцу, замер навытяжку; неловко нагибаясь, держа перед собой полусогнутую левую руку, он по-стариковски полез внутрь, где привычно пахло кожей и хорошим табаком. Застекленная зеленоватым пуленепробиваемым триплексом, со скрытой под черным зеркальным лаком танковой броней, дверца захлопнулась за ним мягко и плотно, точно дверь сейфа, коротко фукнув вытесняемым воздухом. Он вытянул ноги, откидываясь в податливые сафьяновые подушки, и шеститонный лимузин бесшумно тронулся с места.
Дома было хорошо, тихо. И – главное – безлюдно. Безлюдность эта, конечно, была только кажущейся, людей в доме хватало – обслуга, охрана. И в доме, и вокруг. Но они не были видны, они сидели тихо, не подавали признаков жизни. Это было хорошо. Он не любил видеть вокруг себя людей. Новых лиц, непривычных, вообще не переносил; но и привычные были в тягость. Собственно, поэтому он и предпочитал своей кремлевской квартире этот тихий деревянный дом, надежно упрятанный в дебрях подмосковных лесов. В глуши, в безлюдье.
На людях он чувствовал себя как-то… беспокойно. Не то чтобы боялся, нет. Наверное, нет. Нельзя всерьез бояться тех, кого презираешь; а всех тех, с кем ему приходилось общаться, он презирал глубоко и убежденно. И не только их. Других, – с кем не общался и кого не видел, – тоже презирал. Так что дело было не в боязни.
Видеть вокруг себя людей ему было неприятно точно так же, как неприятно бывает в комнате, где много тараканов. Кто боится тараканов? Смешно. Никто не боится, а все равно неприятно. Бегают, шуршат. Зачем? Зачем ему видеть вокруг себя этих… людей?
А ведь когда-то – очень, очень давно – он был скорее общительным человеком, любил шумное общество. Застолья любил, особенно если с хорошим тамадой. За столом можно узнать много полезного, нужного для себя. Ему тогда многое было нужно – предстояла борьба, долгая и упорная, и те, кто противостоял ему тогда, кого следовало сокрушить, были действительно умными и потому опасными людьми. Не чета этим, нынешним.
Потом, в ходе этой долгой и упорной борьбы, умных людей не осталось больше. Иногда прямо жаль, если вспомнить. Осталось одно говно. С кем теперь интересно посидеть за столом? Нету таких. Но нет худа без добра, как говорит русский народ; умные люди исчезали, а его личная власть набирала силу. Такая вот интересная обнаружилась зависимость: чем меньше вокруг умных людей, тем крепче власть. У нее отросли крылья, могучие крылья горного орла, и они возносили его все выше и выше – как-то незаметно, постепенно, виток за витком. По восходящей спирали. Если посмотреть оттуда в долину, что увидишь? Людей? Нет, людей не увидишь, увидишь – тараканов.
Есть высоты, на которых уже просто невозможно не быть одиноким. Не получается! Уже двенадцать лет – с тех пор, как погибла жена, – он был одинок даже в своей семье, со своими детьми. Старший сын, погибший в плену (да будет ему земля пухом), вообще рос чужим.
Женился на какой-то одесситке, носил другую фамилию – ту, настоящую, – словно подчеркивая, что не имеет с отцом ничего общего, кроме уз крови. Даже на фронт ушел простым лейтенантом, а потом попал в плен. Месяца не провоевал, и уже пленный! Немцы в листовках писали, что добровольно сдал свою батарею; могли и врать, конечно, но как узнаешь? Так или иначе, а в плен попал. Может, и это было своего рода протестом: знал ведь, что еще в финскую войну отец приказал считать изменником Родины каждого, кто живым попадет в плен…
Да, с сыновьями ему повезло, ничего не скажешь. Старший – изменник, младший оказался ничтожеством – пьяница, бабник, да и дурак к тому же. Учился, учился, курсы усовершенствования комсостава окончил, а что толку? Авиаполком еще кое-как командовал, а поставили на дивизию – не справился, овечий помет. Такую характеристику от командования получил, что читать стыдно. Дочь вроде была когда-то близким человеком – теперь замужем, тоже своей жизнью живет, отдалилась, в глаза не смотрит при встречах. Не может, верно, простить той истории. А как, интересно, он должен был поступить – позволить семнадцатилетней дуре блудить с распутным наглым жидом? Правильно сделал, что надавал по физиономии. Еще мало надавал, выпороть надо было. А великий кинодеятель пускай теперь на лесоповале трудится, чтобы пыл остудить. Может, еще одного «Ленина в Октябре» там придумает.
Он лежал на жестковатом кожаном диване, где старая экономка каждый вечер стелила ему постель, в небольшой комнате, отделанной и обставленной с той же казенной простотой, что и все в этом доме. Простота не была нарочитой – он действительно был неприхотлив в еде, в одежде, во всем укладе быта. Не испытывал никакой потребности жить иначе. Когда-то, давно уже, согласился принять у себя дома глупого восторженного француза – автора нашумевшей книжонки об империалистической войне; в тот момент было политически целесообразно немножко приподнять завесу тайны, плотно окутывавшую все, касающееся личной жизни вождя первого в мире социалистического государства. Француз побывал у него в кремлевской квартире (той самой, где потом подлец Бухарчик поселился со своей красоткой, правда, ненадолго) и добросовестно описал все увиденное: четыре комнаты, обстановка самая скромная, «как в приличной гостинице», простая солдатская шинель на вешалке. Еще такую деталь привел – у старшего сына нет своей комнаты, спит на диване в столовой…
Многие на Западе решили тогда, что это все было напоказ, этакая потемкинская деревня наоборот, а на самом деле он живет в царских покоях, кушает на золоте. Написал же кто-то, будто расходует на себя 250 миллионов в год. Идиоты! Где им было понять, что уже тогда он слишком высоко стоял над обычными людишками, чтобы разделять их представления об атрибутах могущества. Роскошь – зачем она ему? Зачем побрякушки человеку, имеющему в руках Власть?
Ему нравилось привычное однообразие во всем, что его окружало. Стены кремлевского кабинета были облицованы панелями светлого дуба, поэтому он велел так же отделать и эти комнаты – и спальню, и соседнюю, большую, где обычно работал до двух-трех часов ночи, разложив привезенные с собой бумаги на одном конце длинного стола. На другом конце экономка обычно накрывала к ужину, так было удобно – просто перейти с одного стула на другой. Письменного стола здесь не держал, достаточно просиживал за ним там, в Кремле.
Сейчас он лежал, слушал мертвую тишину в доме и с досадой думал о том, что заснуть удастся не скоро. Следовало бы принять снотворное, но он не любил лекарств, испытывал тайное к ним недоверие. Мало ли что могут подсунуть – каждую таблетку не проверишь. Ничего, бессонница сегодня в порядке вещей, все-таки день был знаменательный… Исторический, можно сказать, день.
Последнее время этих исторических дней было много. День, когда его войска ворвались в Берлин. И день, когда застрелился бесноватый господин Гитлер. И день капитуляции, наконец! Но все-таки сегодняшний – день Парада Победы – был совсем особенным. Словно поставили точку, подвели итоговую черту…
Он прикрыл глаза и снова увидел груду мокнущих под дождем знамен, услышал мрачный, глухой рокот барабанов. Давно отвыкший от обычных человеческих чувств, он все же испытал сегодня большое волнение, глядя на брошенные к его ногам штандарты вражеских полков, не так давно победно прореявшие над всей Европой. Даже тогда, девятого мая, когда на его стол положили доставленный из Берлина акт безоговорочной капитуляции, – даже тогда, брезгливо разглядывая колючие подписи битых фашистских вояк, не испытал он такого волнения, как сегодня.
Но странно: в этом волнении не было радости. Злорадство, – пожалуй; немножко мелкое, немножко недостойное его злорадство. Он должен был бы оказаться выше этого, должен был бы испытывать совсем другое – спокойную гордость победителя, удовлетворение, наконец, просто радость. В том-то и беда, однако, что он давно уже не мог испытывать ни радости, ни гордости, ни удовлетворения. Разучился? Да, наверное, разучился.
И, наверное, это закономерно, иначе просто не могло быть. Пресыщение достигнутым, вот как это называется. А достиг он многого. Еще ни один властитель за всю обозримую историю человечества не достигал столького в политическом плане. Создатели великих империй прошлого, как правило, слабо разбирались в политике, хотя политика как наука существовала уже при фараонах, и основные ее принципы были уже тогда понятны и доступны кому угодно. Принципы были известны, но не применялись с должной последовательностью, вот почему все эти «великие» империи и развалились с такой легкостью, с какой возникали. Единственным толковым правителем мог бы стать Макиавелли – но, как говорится, бодливой корове Бог рогов не дал…
В русской истории и подавно не было по-настоящему великих правителей. Он приказал объявить таковыми Ивана Грозного и Петра, но только из политических соображений. Не потому, что действительно считал их великими. Какие там «великие»! Один – просто садист, бесноватый, подстать господину Гитлеру. У другого хватало энергии, но не хватало ума, способности предвидеть последствия сделанного. После одного – смутное время, гольштинский бардак – после другого; хороши правители, ничего не скажешь. Строили, забыв про фундамент.
Пожалуй, неглупым человеком был Ленин. Хотя его заслуги в целом сильно преувеличены, и здесь когда-нибудь придется внести ясность, восстановить историческую истину. Глубоко заблуждаются некоторые товарищи, полагая, будто Ленин свалил империю Романовых, осуществил великую революцию. Империя упала сама – сгнила и упала, точно перезрелый плод инжира, а революции в России вообще не было. Что такое революция? Это когда народ восстает и силой захватывает власть. Но в семнадцатом году власть в России вовсе не надо было захватывать силой, власть валялась на земле, в грязи. Пожалуйста, подходи любой, бери! Сперва подобрал болтливый господин Керенский, а потом эту бесхозную власть забрали мы – когда господин Керенский наигрался в демократию. Так что, если уж быть исторически точным, Ленин свалил не Романовых. Ленин свалил разных там гучковых-милюковых, это все-таки немножко другое дело. Немножко другой масштаб.
…Почему это он вдруг вспомнил сегодня Ленина? Обычно избегал думать о человеке, не желавшем видеть его на посту генерального секретаря партии, и не любил, когда вспоминали другие – в его присутствии. Почему же сегодня… а, да, – думал о правителях прошлого. Нет, настоящих не было. Первым, всерьез достойным этого определения, – истинным правителем, Правителем с большой буквы, – стал он сам. Он осознал это давно, и понимание своей роли не наполняло его гордостью и не давало радости; объективно и хладнокровно сознавал он себя тем, кем был: величайшим Правителем в истории человечества, первым, сумевшим воплотить в жизнь идею абсолютной, ничем не ограниченной Власти. Но что это ему дало?
Когда-то – очень, очень давно, – он мечтал о власти. Сгорал от этой мечты. Так юноша, еще не познавший женщины, мечтает о первом обладании – но первое обладание женщиной всегда разочаровывает. И умного человека не может не разочаровать обладание властью. К сожалению, поздно это понимаешь. Слишком поздно.
Проклятье, так сегодня и не заснуть… Он сбросил ноги на пол, сел, нашаривая ступней чувяки. Протянув руку, безошибочно нашел кнопку выключателя на ночном столике – был уже второй час. Вышел в соседнюю комнату, включил свет и там. Хотелось пить, он взял с буфета прикрытый бумажкой стеклянный кувшин с холодным отваром каких-то ягод и трав, приготовляемым экономкой, и жадно напился прямо через край. Поставил кувшин на место, аккуратно прикрыл той же бумажкой и прошелся по комнате, беззвучно ступая по толстому ковру. Хорошие ковры были единственным видом роскоши, не вызывавшим в нем раздражения. Прохаживаясь, рассеянно посматривал на вырезанные из «Огонька» цветные репродукции, тут и там прикрепленные кнопками к панелям. Картинами он никогда не интересовался, к живописи был равнодушен, но понравившиеся репродукции иногда собственноручно вырезал и вешал на стену. Просто так – без стекла, без рамки.
Задержавшись возле широкого окна, он отвел в сторону белую шелковую, присобранную фестонами штору – такую же, какие висели в его кремлевском кабинете. За толстым зеркальным стеклом было темно и тихо, дождь перестал, электрическое зарево на востоке совсем потускнело и едва угадывалось над черными кронами яблонь. Москва давно спала – «Четвертый Рим», столица великой большевистской империи, отпраздновавшая сегодня его триумф. Пока только военный, не все сразу…
Потом – не скоро – будет и политический. Не скоро, но это от него не уйдет, теперь уже можно быть уверенным. Он сам главного своего триумфа (надо надеяться!) не увидит, тем более приятно сознавать, что успех главного дела жизни обеспечен. Достигнутая власть, конечно, в чем-то неизбежно разочаровывает, не дает всего, что когда-то от нее ожидал; однако не стоит впадать и в другую крайность. Если власть дает возможность осуществить все, что было задумано, это уже немало. Так что жаловаться ему грех. Того, что сумел осуществить он, не удавалось осуществить еще никому.
Ни один правитель до него не мог создать государственную систему, полностью застрахованную от внутренних потрясений. Таких систем просто не было. Никогда и нигде. Правителей, державших подданных в железной узде, история знает множество; любая власть спокон веку стремилась к тому, чтобы укрепиться, отсюда и жестокие правители. Сколько угодно было жестоких. Многие из них рано или поздно теряли власть, оказавшись недостаточно сильными, но были и сумевшие удержать власть до конца. И все-таки ни один из них не мог считать себя полностью застрахованным от разного рода осложнений внутриполитического порядка.
Мало быть жестоким правителем, это любой дурак сумеет. Чтобы чувствовать себя в безопасности – в полной, стопроцентно гарантированной безопасности – надо быть еще и умным правителем.
…Он сидел за длинным пустым столом – устало сгорбившийся старик в раскрытой на груди белой ночной сорочке, с толстыми усами на слегка отечном, рябом от оспы лице и рыжеватыми волосами, словно перхотью густо пересыпанными сединой. Маленький, невзрачный, совсем не похожий на свои портреты. Только трубка, которую он сейчас машинально взял со стола, – небольшая, с удобно изогнутым чубуком, – придавала ему некоторое сходство с известным всему миру канонизированным обликом. Таким же машинальным движением другая рука придвинула плоскую коричневую жестянку «Явы», толстые пальцы отколупнули крышку, разворошили хрусткую серебряную фольгу. Запахло сладко, медово. Он обычно предпочитал более крепкий папиросный табак, но иногда дома, для разнообразия, курил этот, – специальный трубочный. Не спеша брал щепотки крупно нарезанных, чуть влажновато-клейких золотистых волокон, аккуратно уминал в трубке, тянулся за новой порцией. Привычное занятие, как всегда, успокаивало.
Набив трубку, он стал раскуривать ее, плавными круговыми движениями водя отгибающийся вниз огонек над ровной поверхностью плотно примятого табака; бросив догоревшую спичку, прикрыл чашечку трубки большим пальцем и неглубоко затянулся пряным сладковатым дымом. Он вообще не был завзятым курильщиком, трубка служила скорее игрушкой – иногда очень полезной. При каком-нибудь важном разговоре – хотя бы вот с этими иностранцами, разными гопкинсами и гарриманами, которых немало перебывало в Кремле за последние три года, – возня с трубкой давала возможность помедлить с ответом, хорошо его обдумать…
Теперь с этими визитами, слава Богу, покончено. И хорошо, что покончено. Неприятно было сознавать свою зависимость от этих господ. А зависимость была; из песни, как говорят, слова не выкинешь. Поэтому и приходилось принимать этих людей, беседовать с ними как с равными. Правда, еще одной встречи не избежать –
через три недели предстоит поездка в Берлин. Чего-то они там не поладили со сроками, союзнички. Черчиллю не терпится начать конференцию как можно раньше, у него выборы на носу, а Трумэн уперся – как предложил сразу дату 15 июля, так на том и стоит. Выжидает, ясно, но чего именно? Результатов выборов в Англии? Нет, это его особо интересовать не может, тут что-то другое…
Да, день сегодня был утомительный, все-таки он переволновался. Хотя, собственно, чего было волноваться из-за этого парада? К мысли о том, что война выиграна, он привыкал исподволь, постепенно, еще со времен Сталинграда. После Курска появилась уверенность, дальше беспокоиться было не о чем. Начиная с осени прошлого года, когда завершилась операция «Багратион», ежедневные доклады начальника Оперативного управления Генштаба уже не представляли особого интереса. Все шло как надо, с Германией было покончено.
А когда, конкретно, факт ее разгрома будет зафиксирован соответствующими документами, не имело уже никакого практического значения. По расчетам, это могло произойти в марте или апреле; оказалось – в мае. Не все ли равно? Вопросы сроков его не беспокоили, не интересовал и ход сражения за Берлин, это сражение ровно ничего не могло изменить в ходе войны. К его началу война была уже давно выиграна, Берлин можно было вообще не брать штурмом. Обойти, блокировать наглухо, и пусть бы защитники фашистской столицы сидели там до капитуляции. Сдались бы сами, куда им было деваться! Взятие Берлина имело только политическое значение, военного значения не было никакого.
Но вот сегодня, когда под глухой рокот отсыревших барабанов падали к его ногам вражеские знамена, – сегодня он впервые, по-настоящему, ощутил вкус Победы.
И только сегодня – не двадцать первого апреля, и не первого мая, и даже не девятого – наступила разрядка. Странно, в самом деле. Полтора месяца уже, как нет войны, он знал, что ее больше нет, что она победоносно окончена, и вот только сегодня он наконец это почувствовал.
…Он встал, опять прошелся по комнате, бесшумно – как барс – ступая по толстому ковру, держа в согнутой руке погасшую, чуть теплую уже трубку. Никто не знает, чем была для него эта война. Никто, ни одна душа не знает! Все признают его верховным стратегом, в тысячах стихов и статей описано, как по ночам не гаснет свет в кремлевском кабинете, где он – все видящий, все знающий, никогда не ошибающийся, – до утра просиживает над картами фронтов, планируя стратегические операции, готовя новые и новые сокрушительные удары по противнику. И он действительно много работал по ночам, проводил долгие ночные часы в своем кабинете.
Но если бы знали, что это бывали за часы, что он порой переживал теми бесконечными ночами, если бы видели, как он метался там – наедине с картой, искромсанной стрелами немецких прорывов, наедине с портретами Суворова и Кутузова, наедине со своими мыслями, со своим страхом. Со своей яростью. Как барс в клетке.
Да, люди были правы, когда назвали его главным стратегом Великой Отечественной войны. И в то же время они ошибались: никто из них, говоря о его руководстве войной, не догадывался, что в эти слова заложен несколько иной смысл. Гораздо шире того, который вкладывали они.
Он действительно был главным стратегом этой войны. Наиглавнейшим, не просто «главным»; можно сказать – архистратигом. Каламбур, пожалуй, не из удачных, но кому из простых смертных могло бы прийти в голову то, что пришло однажды ему: цельное, всеобъемлющее представление о том, как провести эту войну с самого начала, какой характер ей придать, как использовать ее в рамках общего, генерального плана своей не военной уже, а политической стратегии – своего Великого Плана.
А ведь в первоначальном виде Великий План (созревший уже в конце двадцатых годов) вообще очень мало принимал в расчет опасность войны. Кто мог тогда всерьез принимать эту опасность? Тема агрессивного капиталистического окружения широко использовалась агитпропом, но просто как средство подхлестывания, как оправдание непомерных затрат на индустриализацию – тяжелая индустрия должна была обеспечить обороноспособность Страны Советов. На самом же деле нападать на Страну Советов было тогда просто некому. Германия, до нитки обобранная победителями, была с нами в наилучших отношениях – ведь это мы помогли ей тайком от французов и англичан восстанавливать военную мощь, учебные и исследовательские центры рейхсвера располагались на нашей территории (Гудериан, сукин сын, учился в Казани), а разговоры насчет «третьего похода Антанты» были явным вздором. После провала интервенции, какому идиоту в Англии или Франции могло бы прийти в голову сунуться еще раз? Тем более, что живы еще были упования на классовую солидарность трудящихся. Считалось, что любая замахнувшаяся на нас капиталистическая страна немедленно получит в ответ рабочие восстания в собственном тылу.
Факты – упрямая вещь. Курс на создание мощной военной промышленности был принят XIV съездом задолго до возникновения реальной угрозы нашим границам: за семь лет до того, как Гитлеру удалось оседлать Веймарскую республику, за шесть лет до «мукденского инцидента» – первой пробы сил японского милитаризма в Манчжурии. Ни с Востока, ни с Запада не было угрозы, на Западе вообще все складывалось – казалось, что складывается, – как нельзя лучше: всеобщая стачка в Англии, уличные бои в Вене, дело явно шло к долгожданному мировому пожару. Именно этим определялись ударные темпы создания промышленности, способной в кратчайший срок вооружить Красную Армию современной техникой, – не страхом перед агрессией, а требованиями международной классовой солидарности. К тому (скорому уже, казалось) моменту, когда мировой пожар будет наконец благополучно раздут, Страна Советов должна была обладать самой могучей военной силой на континенте, способной помочь восставшим братьям по классу где бы то ни было – «от тайги до британских морей». Все только и понимали: Красная Армия есть бронированный кулак мирового пролетариата, вооруженные силы Коминтерна.
Пожалуй, какое-то время и он сам так думал. Но очень скоро появились некоторые сомнения. Довольно существенные сомнения, которые никак не удавалось побороть. Напротив, они укреплялись, порождая новые мысли; вот тогда впервые начали вырисовываться перед ним неясные пока очертания некоего плана, которому суждено было – вызрев – стать Великим.
Великий План складывался и вызревал постепенно, и на первых порах военные соображения в нем отсутствовали. Это была чисто политическая схема, возможность внешней войны учитывалась в ней лишь как элемент случайности, к тому же маловероятной. А вот необходимость создания мощной армии, оснащенной по последнему слову техники, – это он признавал вместе со всеми. Тут у него расхождений с партией не было, просто он