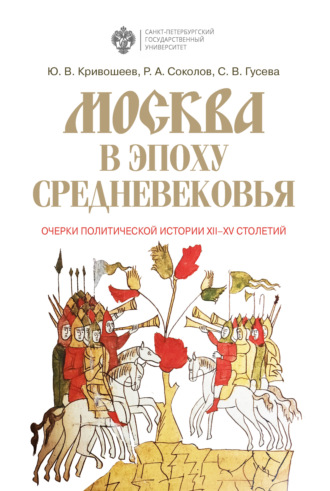
Полная версия
Москва в эпоху Средневековья: очерки политической истории XII-XV столетий
38
Следует отметить и то, что в последние десятилетия появились работы, пересматривающие прежние подходы (см., напр.: [Горский 1995; 2000; Мазуров 1995]).
39
См. в этой связи интересное предположение П. О. Рыкина о попытке создания на Руси «традиционной монгольской системы соправительства» [Рыкин 1996].
40
Подробно о динамике княжеско-ханских отношений 40-х – начала 60-х годов см.: [Егоров 1997].
41
См. также [ПСРЛ, т. XVIII: 75]. Это сообщение Симеоновской летописи В. А. Кучкин считает «древнейшим», составленным «скорее всего, по рассказам вернувшихся домой русских участников похода» [Кучкин 1966: 170]. Кроме дополнительных сведений (перечисление поименно русских князей – участников похода), по нашему мнению, принципиально нового текст Симеоновской летописи не дает.
42
Подробно об этой экспедиции см.: [Егоров 1985: 194–198].
43
См.: [Полубояринова 1978: 12–13, 16].
44
Впрочем, русско-половецкие отношения не сводились только к конфликтным ситуациям или союзнической помощи. В литературе высказывалось мнение, что «взаимоотношения между народами, русским и половецким, были и более тесны, и более дружественны, они вросли в повседневный быт», также «шло духовное взаимодействие» [Гордлевский 1947: 322]. Об «интенсивном товарообмене» между ними писал А. Ю. Якубовский [Якубовский 1932: 24].
45
Теорией дара занимались также Э. Б. Тайлор и К. Леви-Стросс [Тайлор 1989: 465–466; Леви-Стросс 1985: 301]. О влиянии теории М. Мосса на социальную антропологию см.: [Гофман 1976: 338–358; Крюков 1997: 1–15].
46
Н. И. Веселовский, обративший на это внимание, верно отмечает, что «обмен подарками при посредстве послов установился в очень отдаленное время и не составлял исключительного явления у татар», но в то же время ошибается, говоря, что «последние довели систему вымогательства подарков до виртуозности» [Веселовский 1911: 7]. Не вымогательство, а архаические нормы и обычаи являлись основой этих отношений.
47
Об одномерном восприятии монголов европейцами на примере описания Гильома Рубрука хорошо сказала Н. Л. Жуковская. «Да, мы знаем из “Путешествия…” Рубрука, как жили монголы, чем они питались, как обращались друг с другом и с приезжими, какие события произошли в ставке монгольского хана за те месяцы, что провел в ней Рубрук (азы визуальной этнографии), и многое другое. И в то же время мы не знаем о них ничего такого, из чего мы могли бы заключить, что перед нами уникальный культурный мир не только в его необычном для европейца материальном воплощении (это как раз Рубрук прекрасно отразил), но и в определенной мировоззренческой целостности, где каждая вещь, обряд, явление, поступок сопряжены множеством нитей друг с другом, образуя некую сбалансированную завершенность, гармонию личности и окружающего мира, которой порою так недостает нам сегодня.
Ничего этого не заметил Рубрук, да и не мог заметить, так как, считая, что только христианам открыт свет истины, он не был готов к восприятию чужой культуры» [Жуковская 1988: 5]. Все сказанное можно приложить и к сообщениям других европейцев, посещавших монголов, в частности Плано Карпини.
48
Избирая великим ханом Гуюка, монголы ждали от него «щедрых даров, наслаждения справедливостью и почета для каждого князя и вождя сообразно с его рангом» (цит. по: [Вернадский 1997а: 127]).
49
Об источниках сочинения Джувейни «История завоевателя мира» см.: [Тизенгаузен 1941: 20].
50
Возможно, в этой плоскости лежит и объяснение отмеченной Плано Карпини «скупости» монголов. За приношениями-подношениями разнообразных даров он не рассмотрел сути «отдарка» – получения властных полномочий.
51
Говоря о «визите» Ярослава Всеволодовича в 1243 г., Л. Н. Гумилев подытожил его так: «По сути дела, это был союзный договор, обставленный по этикету того времени» [Гумилев 1989: 509]. Он, как нам кажется, близко подошел к разъяснению ситуации. «Этикет того времени» заключался в активном использовании архаических комплексов, в данном случае института «подарка-отдарка».
52
В. М. Крюков, сравнивая древнекитайские «пожалования» с европейской «инвеститурой», пишет, что в них «безусловно, наличествует “инвеститурный”элемент, но это лишь одна из его сторон. Институт инвеституры в раннефеодальных обществах – это видоизмененная форма архаического дара, стадиально более поздняя. Дары здесь уже превращены в чистый символ, знак, утративший какой бы то ни было экономический смысл» [Крюков 1987: 9]. Мы полагаем, что в русско-ордынских отношениях, судя по всему, сохраняется еще именно «форма архаического дара». Отсюда эквивалент материальной (экономической) и политической составляющих.

