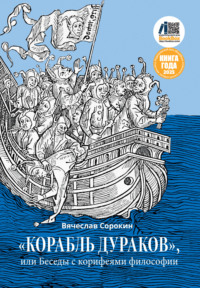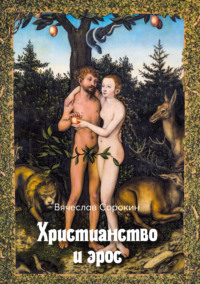Полная версия
Христианство и зло
Если для принципа допускаются исключения, тем самым допускается следование противоположному принципу. Незыблемая шкала ценностей при таких условиях не может быть установлена, поскольку для всякой такой шкалы возможно мыслить равноценную ей противоположную шкалу ценностей. Христианская церковь никогда не следовала строго шкале ценностей, выводимой из десяти заповедей. В этом не было нужды после того, как она открыла удобную для себя возможность оправдывать любые свои действия ссылкой на их угодность Богу. Отныне всякое действие, желанное для церкви, было дозволено, поскольку не было такого действия, которое невозможно было бы оправдать таким образом. Очевидная несообразность таких дел, как насильственная христианизация, крестовые походы с их ужасами или пытки и казни «еретиков» с заповедями «Люби ближнего» и «Не убей» затушёвывалась софистическими уловками и двусмысленными толкованиями.
IV. Идеал абсолютной любви
Христианской церковью систематически нарушались все заповеди, но ни одной не пренебрегали так часто, как заповедью любви. Все прочие заповеди выводимы из неё – кто убивает, крадёт, прелюбодействует, желает чужого имущества, не чтит родителей, тот нарушает заповедь любви. Этой заповеди за две тысячи лет христианства выпало на долю быть самой нарушаемой из всех. Заповедь любви бессильна перед государственной и церковной властью, но ей не присуща внутренняя сила и самой по себе. Но не бессилен ни перед какой властью моральный закон. Как и законы природы, он проявляет себя с необходимостью, но, в отличие от законов природы, его возможно не соблюдать. Совесть и здоровое нравственное чувство противятся несоблюдению морального закона, но страх или соображения выгоды могут заставить умолкнуть совесть и нравственное чувство. Две силы всегда противостояли силе морального закона – власть верхов и страх низов. Эти три силы непрестанно боролись между собой, и когда побеждал моральный закон, отступали обе другие силы и происходили знаковые события, ломающие ход истории.
Рядом с этими силами возможно поставить как равноценную им силу интерес. В своей совокупности эти силы составляют тот механизм, которому подчинено всякое сознательное действие человека. Три главные пружины этого механизма – интерес, страх и моральное веление. Христианство захотело противопоставить этому механизму, опробованному в течение тысячелетий, силу любви, возведя любовь в ранг первостепенной ценности. Но последующая практика показала неоправданность надежд, возлагаемых на этот принцип. Без диверсификации душевных сил, обеспечивающей им разумную разнонаправленность, ни полноценное существование, ни выживание рода человек были бы невозможны. Подчинить все свои действия принципу любви не только невозможно для человека, но и было бы гибельно для него. Инстинкту любви самой природой указаны границы, за пределами которых он становится инстинктом деструктивным и несёт с собой не благо, но зло. Если бы Иисус был главой философской школы, он бы поостерёгся положить в основание всех дел и помыслов человека любовь. Но он был главой незначительной в то время религиозной секты, философская глубина не присуща его мысли. Но христианство чрезвычайно выиграло от этого выбора своего учителя. Новая религия стала отождествляться с религией любви и выгодно отличалась этим от других религий. Ницше верно уловил это:
«Самое сильное понятие в христианской религии, возвышающее её над остальными религиями, выражено одним словом: любовь. В этом слове есть столько многозначительного, возбуждающего и вызывающего воспоминания и надежду, что даже самый низший интеллект и самое холодное сердце чувствуют обаяние этого слова»[2].
Обосновываема ли заповедь любви или она предлагает идеал, который легко принять, но которому невозможно следовать? Идеал может быть труднодостижимым, но он не должен быть противоразумным. В большинстве случаев противоразумные идеалы имеют религиозную подоплёку. Человек может пойти на любую жертву, если его религиозность требует этого.
Идеал всеобщей любви и недостижим, и противоразумен. Любовью всех ко всем любовь была бы обесценена. Все бы оказались связаны ровным, одинаковым для всех отношением, которое было бы чем угодно, но не любовью, и, скорее всего, не замечалось бы, как не замечается воздух как среда, окружающая человека постоянно. Любовь потому высокая ценность, что любить дано не каждому, и не каждому дано быть любимым.
Человек способен в одинаковой мере к любви и к ненависти. Он не меньше ненавидит, чем любит. Он редко по-настоящему любит и по-настоящему ненавидит. В этих противоположных чувствах берут начало как моральные, так и аморальные помыслы и поступки. Неспособность ненавидеть может быть не меньшим злом, чем неспособность любить. Но самым большим злом было бы для человека, если бы он был способен только любить. У любви должна быть свобода выбора. Даже Бога человек должен иметь возможность выбирать себе, и он должен иметь возможность выбирать, любить ему Бога или нет. Он должен иметь всё то, что ему запрещает иметь заповедь любви.
Какое обвинение можно выдвинуть против аморализма, кроме того, что с ним связано страдание ближнего? Страдание ближнего может быть заслужено им. Когда страдание заслужено нами самими, мы порой беспрекословно принимаем его, даже ищем его – например, когда оно воспринимается как искупление вины. Аморальное поведение осуждается; но не может быть указано достаточное основание, почему человеку не должны быть присущи качества, заслуживающие осуждения. Аморальные помыслы и поступки – это ценные моральные ориентиры, указывающие человеку, каким он не должен быть. Не только удовольствием склоняется каждый к поведению, способствующему его благу, но и неудовольствием и болью. Моральные и аморальные поступки и помыслы как нравственные ориентиры равноценны.
Только моральные поступки не представляли бы для человека ценности. Тем, что он любит добро, человек обязан не заповедям, но своему аморализму. Невозможностью зла исключалась бы возможность добра. Христианская мысль не поднимается над односторонней точкой зрения на человека и мораль. Так называемые «дурные» страсти и склонности, и проистекающие из них поступки не низменны и не греховны сами по себе; низменными и греховными их делают низменные мотивы. Высокие мотивы, напротив, возвышают и облагораживают любую страсть и склонность. Зло добро, если оно обусловлено высокими мотивами, а добро зло, если оно обусловлено низменными мотивами. Но по незнанию мотивов оно может быть принято за добро.
Человек знает, что он должен избегать причинения зла ближнему; он и сам порой хочет этого. Но он может хотеть и противоположного. Не в этом ли состоит смысл и ценность свободы – в возможности взаимоисключающих хотений? «Хочу властвовать над моими хотениями!» В этом желании проявляет себя главное хотение человека – хотение абсолютной свободы. «Хочу уметь хотеть» и «хочу уметь не хотеть» – такое умение и было бы состоянием абсолютной свободы для человека, если бы оно было возможно. Но возможно для него совсем другое: подчинённость власти удовольствия и непрекращающаяся внутренняя борьба между себялюбием и совестью. Моральная составляющая есть то, что делает хотение моральным или аморальным. Хотение, лишённое этой компоненты, внеморально.
Наличием этой компоненты осложняется отношение человека к своему хотению: он осознаёт себя моральным существом, ответственным за свой будущий поступок. Роль моральной компоненты в поведении – посредничать между эгоизмами, выравнивая и примиряя между собой эгоизмы всех.
Христианину позволяется только хотеть любить. Это морально-положительное хотение, из которого будто бы проистекают все другие морально-положительные хотения. Христианин знает, что это требование нереализуемо. Можно установить моральные максимы с намерением не следовать им. Если это максимы возвышенные, они удобны как раз тем, что, осознаваемые как высокие, они наполняют душу гордостью, но не делают необходимым следование им. Христианство понимает себя как религия любви. Но нет человека, который был бы способен только любить. А если явится такой человек, он очень скоро станет всеми осмеиваемым и презираемым изгоем.
V. Христос и Ницше
Есть моральная философия и есть христианство, религия, принимаемая и прославляемая за её высокие моральные ценности. Странен этот параллелизм. Мораль – дар Бога человеку. Философы хотят судить о том, о чём уже вынес своё суждение Бог. Разве уже не обрёл человек моральную истину милостью Высшего существа? Она провозглашена в том числе и для философов – устами Того, кто знает всё. Но религий много, и это ставит разум перед трудностями. Это и делает необходимым явление философа. И он является – объективный, незаинтересованный ум. Он видит свою миссию в том, чтобы внести порядок в тот хаос, который порождён множественностью религий.
Число желающих подвергать сомнению христианские догматы всегда было велико, но почти не было желающих подвергнуть сомнению моральное учение Христа. Представим себе Ницше проповедущим рядом с проповедующим Христом. Очевидно, на чьей стороне будут симпатии большинства. Но когда большинство было право? Ницше замалчивается; в церквях не произносится его имя; но можно ли делать вид, что Ницше не было? Конфликт между философом и христианством по-прежнему актуален. Слово Ницше по-прежнему звучит мощно, а христианству мало что есть возразить на него. Сопоставимы ли оба пророка – каждый своей истины – Христос и Ницше? Примиримы ли их позиции? В словах Ницше с казуистической дотошностью выискиваются противоречия, после чего делается вывод: Нишце христианин. К. Ясперс: «Мышление Ницше фактически определяется христианскими импульсами, хотя содержание их утрачено»[3]. И далее: «Воля к истине и к знанию у Ницше тоже христианского происхождения»[4]. Истина Ницше недоступна заурядным умам, но она и не обращена к заурядным умам; оттого-то он был услышан лишь немногими. Сработал истинкт самосохранения большинства, который подсказывает: лучше быть на стороне Христа, но не потому, что его слово истина, а потому, что оно добро. Истина, возможно, на стороне Ницше, но добро для человека важнее истины. Даже если слово Христа заблуждение, большинство предпочтёт его истине Ницше.
Такого феномена, как христианская мораль, нет в строгом смысле слова. Учение Христа кишит неясностями и противоречиями. Слова Ницше ясны, слова Христа нуждаются в истолковании. Их подлинный смысл никогда не будет выявлен. Желающих не видеть очевидное – христианство в глубочайшем кризисе – много. В Ницше возможно видеть собирательный образ философа-бунтаря. Он пришёл обрушить христианство. Были такие попытки и до него, но его попытка стала самой мощной и для христианства самой болезненной. Но то, что христианство в кризисе, не заслуга Ницше. Если бы он явился с замыслом спасти христианство, он бы, возможно, был причислен ныне к лику святых, но он бы не изменил ситуацию. Потому что не выдающиеся одиночки, вроде Спинозы и Ницше, даже если их будет много, решат судьбу христианства. Если тысяча человек толкнут скалу, она всё же не скатится в пропасть, а если скала катится в пропасть, тысяча человек не удержат её. Есть желающие возродить христианство в первоначальном виде с его былым – будто бы присущим ему – духом искренности и жертвенности. Причина очевидна: с моральным учением Христа, даже если оно заблуждение, жить лучше человеку, чем с истиной Ницше.
Антигуманный характер обязательной христианской любви не лежит на поверхности, как лежит на поверхности антигуманный характер зла. Добрые христианские помыслы могут быть более несовместимы со счастьем человека, чем низменные помыслы. Понимание этого заставляет иначе отнестись к самим категориям добро и зло. Для Ницше зло добро, если оно служит освобождению человека от христианской морали и моральности. Он начал, но не довёл до конца великое дело пересмотра моральных ценностей. Как возможно для зла быть добром, а для добра злом? Это центральный вопрос для Ницше, и он решил его, показав, что тождество добра и зла возможно.
Принцип любви определял моральные искания человечества с незапамятных времён. Так велика была его сила, что и иудаизм, и христианство подпали его влиянию. Христианство безосновательно ставит открытие этого принципа в заслугу себе, а Христос объявлен его открывателем. Между тем для христианства не было бы никакой заслуги в том, если бы оно действительно было первой религией, открывшей этот принцип. Он открывается каждым для себя уже в младенческом возрасте. Ребёнок для матери объект любви, и её он тоже воспринимает как объект любви. Разве этот союз матери и ребёнка не воплощение и не открытие обоими принципа любви? Этим же принципом определяется отношение доброжелательного соседства между социальными группами, нациями, расами, народами, а порой – что менее всего возможно! – и религиями.
Для христианина не может возникнуть вопрос, предпочитать ли ему любовь ненависти. Но за поверхностной очевидностью того, что только любовь может быть предметом его выбора, невидимо скрыт парадокс: выбор между любовью и ненавистью невозможен. Лишь поскольку есть поступки из ненависти, поступки из любви имеют ценность. Если бы все поступки совершались из любви, заповедь «Люби ближнего» сделалась бы в буквальном смысле слова бессмысленной. Христос, выбирая для своего учения основополагающий принцип, остановил свой выбор на принципе любви опрометчиво, соблазнившись его внешней привлекательностью. С тех пор этот принцип пронизывает жизнь христианских народов, присутствуя в ней, но глубоко её не затрагивая. Он не мешает христианину быть в своих поступках таким, каким он хочет быть. Для видимости признавая принцип любви, христианин предпочитает ему реальное благо, которое состоит для него, как и для язычников, в следовании желаниям и инстинктам своего я. Это тоже принцип любви – принцип любви к самому себе. Когда христианин оказывается перед альтернативой, выбрать ему грех, который связан для него с благом, или благо ближнего, он, не колеблясь, выбирает грех как лучшее для себя, оставляя праведность святым.
Только из столкновения доброго и злого начал возникает нужный человеку результат. Поэтому утопичны все попытки искоренения зла как такового. Если бы кто-то обозначил как высшую цель человечества искоренение добра, он был бы объявлен безумцем. Но противоположная цель – искоренение зла – не меньшее безумие. Добрые намерения, стоящие за этой целью, понятны, но при этом удивительным образом не замечается губительность последствий этих намерений, если они будут воплощены. Грех и греховность не противоречат природе человека. Тут открывается возможность реабилитации греха через устранение важнейшего заблуждения, явившегося с христианством, суть которого – грех зло и подлежит искоренению. Не всякий грех зло. Можно простым семантическим приёмом искоренить огромное количество грехов: для этого достаточно лишить понятие «грех» отрицательного коннотативного значения. В результате большая часть грехов не будет ассоциироваться со злом, а закоренелым грешникам будет обеспечено место в раю, хотя они не пошевелят для этого и пальцем. Спасение души станет возможным через перетолкование значений понятий «грех» и «зло». Отвергнув религиозное значение понятия «грех», христианин избавится от сознания своей греховности и от груза мнимых грехов, отягощающих его душу. Через изменение смысла одного этого понятия он станет для себя лучше – таким, каким желает быть. Но он перестанет быть христианином.
Христианство было первой и единственной религией, объявившей природу человека безнадёжно испорченной. Оно выделило среди качеств человека как важнейшие не добродетели, как это делали античные философы, но пороки; при этом преувеличивался масштаб последних. Отсюда назойливое требование христианства к человеку – непрестанно помышлять о своей испорченности и ставить покаяние на первое место среди своих дел. Но допустим на миг, что все грешники превратятся в праведников. Не останется больше тех, кого нужно будет поучать и исправлять, и не нужны станут Христос и христианство. Христос сам говорит о себе: «Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию»[5]. Но исправившимся ни к чему покаяние.
Христианство не может быть заинтересованным в улучшении природы человека; в этом случае исчезли бы причина и почва для него. Но и самого человека в целом устраивает его природа в том виде, какова она есть. Святоши внушают большинству людей неприязнь. Отождествление христианством со злом того, что не зло, и с грехом того, что не грех, приводило в ярость Ницше. Требованию христианства «Подави твои страсти!» он противопоставил требование «Дай волю твоим страстям и инстинктам!» Требованию «Не греши!» он противопоставил требование «Возвысься до греха!» Одни предпочтут Христа в качестве морального авторитета, другие Ницше. Обе эти позиции легко уживаются и совмещаются в разных индивидуумах, а порой и в том же индивидууме. Зло неуничтожимо, но не в этом суть и истина, а в том, что оно не должно быть уничтожено. Без зла не выживет человек; поэтому оно неуничтожимо. Это лишь естественное следствие того, что оно необходимо. Человека не нужно учить ненавидеть зло – он ненавидит зло и любит его, и иное отношение ко злу он не выработает в себе. Для него остаётся один путь – относиться ко злу с опаской и любопытством и признать легитимность греха. Это и есть истинное благовестие для него. Но принесено оно ему Ницше.
Не только между реальными поступками, но и в уме невозможно проведение отчётливой разграничительной линии между добром и злом. В том, как обычно проводится эта линия, обнаруживаются многочисленные несообразности и нарушения логики. Человек боится постичь зло во всей его глубине – не оттого ли, что он боится, что он полюбит и примет зло? Но он всегда любил и принимал зло – в той мере, в какой оно было для него жизненно необходимо, было для него добро. Ницше, этот великий знаток и ценитель зла, не сомневался в том, что называющие зло «злом» неверно пользуются этим словом. Добро и зло обречены на сосуществование во взаимном противостоянии, а человек обречён на причастность тому и другому. Зло необходимое условие счастья, коль скоро счастье возможно только через преодоление зла. Неизбежность зла неприемлема для разума, а с другой стороны, должна быть принята им. Не вина человека, что путь к его высшим целям и ценностям лежит через зло, что за добро он вынужден платить высокую цену. Не им установлена эта цена.
Догматы христианства всегда подвергались осмеянию критиками христианства и скептиками, но не его моральное учение. Что приемлемо и что неприемлемо в христианстве для современного человека? Не только философы, но и теологи уже задают этот вопрос. Отвечают на него те и другие с некоторых пор одинаково: неприемлемо в христианстве то, что исторически устарело, приемлемо и не должно подвергаться ревизии его моральное учение. После двух тысячелетий вражды богословие и философия начинают находить общий язык. Философу легко спрашивать о ценности учения Христа: его положение свободного мыслителя не обязывает его к положительному ответу. Труднее спросить о том же богослову, которого положение обязывает к положительному ответу. Отвергая догматическую и мифологическую составляющие христианства, философ не подвергает сомнению моральную ценность христианства. В этом ему начинает следовать богослов, позволяя себе всё большую свободу мысли. Интересно явление рациональной, или либеральной, теологии с её требованием истины и интеллектуальной честности, обращённым ей и к самой себе. Протестантский теолог Рудольф Бультманн так сформулировал претензии критической теологической мысли к христианству:
«Воскресший был вознесён на небо, …сделавшись «Господом» и «Царём». Он придёт вновь на небесных облаках, чтобы довершить дело спасения; тогда мёртвые воскреснут, свершится суд и будут уничтожены грех, смерть и всякое зло. …Всё это – мифологическая речь. Её отдельные мотивы нетрудно возвести к современной ей мифологии еврейской апокалиптики и гностическому мифу о спасении. А коль скоро эта речь мифологична, она недостоверна для сегодняшнего человека, ибо для него мифическая картина мира отошла в прошлое»[6].
Ещё более резок его тон в частном письме к другу, не предназначавшемся для публикации:
«В настоящий момент у меня больше всего расхождений с догматикой. Тут нам действительно нужна реформа. Что за глупости переполняют её! «Откровение», «Троица», «Чудеса», «Божественные качества». Это ужасно! И всё это происходит только из любви к традиции»[7].
Если бы только из любви к традиции! Но и Бультманн, не принимая христианской догматики, не выдвигает каких-либо претензий к христианской морали. В этом вопросе царит единодушие между теологами и философами. Вопрос об интеллектуальной честности не возникает для того, кто искренне разделяет христианские моральные ценности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Исх. 23:4,5.
2
Фридрих Ницше. Смешанные мнения и изречения. § 95. https://royallib.com/book/nitsshe_fridrih/smeshannie_mneniya_i_izrecheniya.html
3
Карл Ясперс. Ницше и христианство. М.: Моск. филос. фонд Медиум, 1994. С. 41.
4
Там же. С. 58.
5
Мк. 2:17.
6
Рудольф Бультманн. Новый Завет и мифология. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bibliologia/Article/bultm.php
7
Rudolf Bultmann als Mensch und Theologe. http://www.kirche-oldenburg.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Werner_Zager_-_ Rudolf_Bultmann_als_Mensch_und_Theologe.pdf С. 6. (Пер. автора).