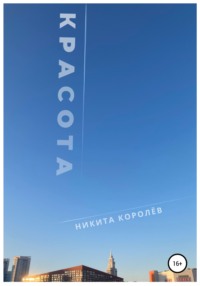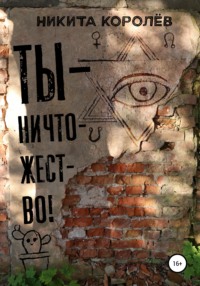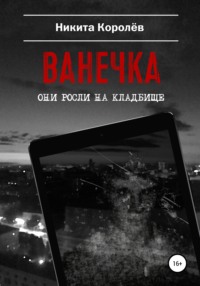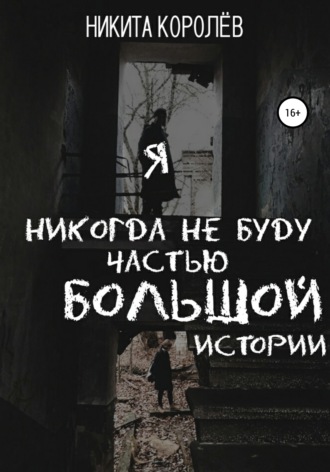 полная версия
полная версияЯ никогда не буду частью большой истории
На этот раз Прокофию всё же нашлось что сказать: летом он пойдёт на интенсив по испанскому и литературе. И как бы я кого не приструнял, эти слова больно ранили моего внутреннего ребёнка, который, раз этот текст пишется, до сих пор безраздельно мной правит. Монтэг, зная об успехах Прокофия в испанском (тот, шутка ли, недавно сдал по нему международный экзамен), спросил, «торкает» ли его язык. Поскольку никто подвоха не заметил, мне пришлось самому, прерывая уже начавшего говорить Прокофия, обратить внимание на упущенную игру слов. Просто повторить её оказалось достаточно: после непродолжительного ступора Монтэг удалился на поляну за густыми зарослями в стороне от дороги.
И как всё-таки приятно иногда из Базарова превратиться в Ситникова! Даже если первым ты никогда и не бывал.
Что-то утешительно улюлюкая, через пару минут мы всё-таки вернули Монтэга и пошли дальше. У Прокофия нашлось ещё что рассказать: он наконец-таки определился со своим дальнейшим поприщем – он хочет стать кинооператором. По его словам, это и не писательство, и не художество, где у него сплошные застои – он просто будет глазами зрителя. К этому моменту мы уже вышли к большой и шумной дороге, Волоколамке, вдоль которой, как показывал навигатор, пролегал весь наш дальнейший путь. Увлечённые беседой, мы не увидели в этом проблемы и зашагали по пыльной обочине.
Стараясь не прослыть занудой, я сказал, что все застои в голове, что, если они есть в одном месте, они будут возникать везде, но есть и мнимые желания, которым и нормально не воплощаться, и так далее. На слова же Прокофия о том, что не быть ему ни писателем, ни художником, я возразил, что зарекаться на этот счёт уж точно не стоит, потому что это далеко не только от него зависит. Монтэг подтвердил мои слова, процитировав Быкова: «Мимо жопы не сядешь». Отсмеявшись, мы наконец поняли, что по этой дороге мы придём не в Истру, а, скорее, в онкологический центр, поэтому развернулись и направились к той станции, на которой сошли.
После некоторого смятённого молчания Мистер Монтэг попросил меня рассказать одну историю о продвижении собственной музыки, которой я как-то заинтриговал его в личном разговоре. Ну, я рассказал: постучался однажды ко мне в личку мелкий рекламный бес, а я купился, впустил его, так сказать, в своё сердце, заплатил ему пятнадцать тысяч за полный апгрейд проекта… Ну, апгрейд-то какой-никакой был, а вот реклама… «Но да об этом в конце» – сказали во мне остатки стыда, и я заговорил про концерт, организованный этой шарашкой, тоже сплошь надувательский. Говорю, мол, всем музыкантам поучение: ну не думайте вы, что, если в интернете, где поддержать можно кликом мышки, вас никто не поддерживает, это сделают на концерте, куда ещё нужно переться на своих двоих.
И пока я поучал, Монтэг вдруг предупредил нас, чтобы мы ни в коем случае не смотрели направо. Я, разумеется, посмотрел и увидел тело бежевой дворняжки, уже поднадувшееся, как напитанная водой вата, лежавшее на обочине в навязчивом обществе мух. Кажется, именно они, мухи, больше всего и пугают меня в таких случаях; с каким-то неожиданным для себя испугом я отскочил на другую сторону дороги. Прокофий в этом плане оказался куда более послушным и, как и было велено, направо не посмотрел. На его вопросы что там мы отвечали что угодно, кроме правды.
Впереди показались уже знакомые кирпичные коробки, и вскоре мы снова очутились на станции. Чисто для проформы мы заглянули в кассу, но та не работала, поэтому мы решили, вернее, просто смирились с тем, что эти пару станций до Истры проедем зайцами.
Уже в поезде я достал телефон и показал, в чём же всё-таки обстояла реклама от «Black Star», как мы условно обозвали эту злосчастную контору: посты в различные «Подслушано» по типу: «У меня разбился градусник, не подскажете, чем собирать ртуть?», а ниже – наша песня. Вот и вся реклама. Все смеялись как-то стыдливо: ребята – переглядываясь, словно боясь меня обидеть; я – зная, что, конечно, больше всего и всех смеху подобен именно я.
Наконец объявили Истру, мы сошли с поезда, уткнулись в турникеты на выходе с платформы, вернулись, спрыгнули на пути (каждый прокричал что-то религиозное), прошли по тропинке вдоль забора, широко и бессовестно протоптанной, миновали автовокзал, вежливо помотав всем «такси-таксистам» головой, и вверили себя случайности. У цилиндра-афиши с анонсами местных театральных представлений мне позвонила мама, я объяснил где я, как и почему (когда я уезжал, она ещё спала), и мы двинулись дальше.
Я всегда удивлялся тому, что у таких маленьких городков словно бы нет смыслового центра: ты просто идёшь мимо высоких рыжих новостроек, магазинов, остановок, парков, ТЦ, пока не оказываешься на пустыре или границе леса, тогда как город, будто счастье, не успев показаться, остался где-то позади.
Монтэг рассказывал о своих намерениях походить летом по каким-нибудь квартирникам, чтобы понемногу привыкать к сцене и публике. Условились как-нибудь вместе выступить.
Мы пересекли перекрёсток и, продолжая идти прямо, стали спускаться по дороге, уходившей под небольшим уклоном вниз, мимо старых, ещё царских времён, одноэтажных домиков.
Разговор всё вился вокруг музыки: мы говорили о сценическом страхе, со светлой грустью вздыхали по прошедшим концертам, и я пытался нравственно оправдать свои полигамные отношения с барабанщиками, мол, пусть с нами играет кто хочет, главное, чтобы музыка звучала. Прокофий, тихонько вмешавшись в разговор, отпросился в магазин, мимо которого мы в тот момент проходили. Закупиться решили все, и из магазина каждый вышел с мороженым.
Вдали за деревьями засверкала куполами белая, окружённая белыми же крепостными стенами громада, и я сразу понял, что это Новоиерусалимский монастырь; мы были в нём примерно год назад с семьёй моего набожного дяди, когда жили у них на даче.
Мы перешли проезжую часть и зашагали по широкой, ведущей к крепостным воротам дороге. По бокам оставались попрошайки, церковные лавки и высоченные тополя. Мы меж тем сошлись во мнении, что нашим родителям очень повезло с нами, ходящими по воскресеньям в храм, причём так, что левая наша нога не знала, куда ведёт нас правая.
У ворот мы остановились, чтобы доесть мороженое. Хоть мы понимали, что никаких указаний на этот счёт в Библии нет, мы всё же решили не искушать местную охрану. На позеленевшей от времени створке ворот висел плакат, стилизованный под крёстное знамение и предупреждавший о террористической угрозе. Монтэга это очень позабавило; я же стал объяснять ребятам сакральный смысл христианского креста: вертикальная перекладина – любовь к богу, горизонтальная – к человеку.
С мороженым было покончено, я бегло перекрестился, ребята воздержались, и мы вошли на территорию храма.
Опрятный газон, плиточные дорожки, храм и крепостные стены, белоснежные, сияющие словно каким-то своим, внутренним светом, – всё это мне казалось фантастическим, а Монтэгу – фентезийным, игровым. Будто локация в MMORPG, как он сказал. Я долго искал в себе силы, чтобы наконец поделиться своими взглядами на веру, сильно изменившимися – вернее, просто появившимися – после прослушивания лекций отца Андрея Кураева, ныне расстриженного. Без лишних подводок я начал, мол, не могу больше верить во всё подряд, слизывать сливки самых умных духовных учений, хотя космополит на левом плече настоятельно рекомендует смотреть на всё шире, ведь религий – пруд пруди, и разве это уже само по себе не исключает истинность какой-то одной?
Я всё продолжал говорить в таком ироническом ключе, меж тем как поднявшийся ветер дул всё сильнее, унося мои слова, пока я наконец не замолчал, уставившись с полубезумной улыбкой на Мистера Монтэга и как бы спрашивая его взглядом, понимает ли он смысл происходящего. Монтэг с такой же точно улыбкой, как у меня, проскрежетал: «Заткнись». Уже сквозь смех мы стали предполагать, что же будет дальше: может быть, ветер зашвырнёт меня на колокольню или поднимет вверх и шваркнет об землю? Так мы обошли храм почти по кругу и встали у входа. У Прокофия не было чем покрыть голову, я был в шортах, но мы всё же решили попробовать войти; я только повязал вокруг талии, как юбку, чёрную кофту Монтэга.
В прошлый раз, в разгар чумы, несмотря даже на Пасхальную пору, храм пустовал. Сейчас в нём было почти так же людно, как в Иерусалимском подлиннике. Мы прошли мимо прилавка с «мерчём», как его окрестил Монтэг, мимо подсвечников, свернули в арку, с двух сторон расписанную библейскими сюжетами, и оказались перед Кувуклией – часовней Гроба Господня. К ней стояла очередь, а желанием попасть внутрь, кажется, никто из нас не горел, поэтому мы зашатались по храму, задирая голову к высоченному потолку и останавливаясь у грандиозных фресок. Возле одной из них Монтэг поделился своим духовным опытом: каждый раз бывая в храме, он что-то испытывает, только вот что именно, он не знает. Мои наводящие вопросы этого чувства не прояснили.
Мы ещё побродили по храму и, пройдя мимо большой гранитной плиты, неприметно лежавшей в углу, набрели на вход в какое-то подземелье. Сбоку висела табличка с надписью «Святой источник». Мы спустились по каменным ступеням и оказались в небольшом помещении с иконами, кандилами и небольшой угловой лавкой. Здесь мы купили пластиковые бутылки для святой воды, после чего спустились по ещё одной лестнице уже к источнику. Он располагался в маленькой комнатке, заставленной железными баками и сейчас заполонённой группой туристов. Экскурсовод рассказывала, что, когда в советские годы храм вместе с монастырём закрыли, источник почти пересох, на его месте долгое время была только грязная лужа, но, когда сюда вернулись монахи, он забил вновь, и сейчас воды хватает всем даже на Крещение.
Мы наполнили бутылки, пропустили выходивших от источника людей, а сами остались ещё ненадолго внизу. Я продолжил свою речь о том, что в христианстве нет понятия сансары, потому как христиане не верят в то, что мир – заколдованный круг, которого вдобавок ещё и нет и из которого можно спастись в нирване. Монтэг же с Прокофием обсудили читаемую последним антиутопию некоего Панчина, науч-попá, который, как мне рассказали, ходил по разным оккультным собраниям и прямо на них развенчивал всю эту грошовую мистику; в книге же (названия не помню) Прокофию был интересен эпизод, когда на судах прибегали к помощи астрологов, гадалок и хиромантов.
Вдоволь словесно осквернив святой источник, мы поднялись обратно к угловой лавке, где я, уже охваченный праведным перфекционизмом, приобрёл три свечки – для себя, Прокофия и Монтэга. Они без лишних колебаний их приняли, и мы, поднявшись ещё выше, вышли из подземного придела.
Возле входа в него теперь стояла другая экскурсионная группа; рассказывали, что место, где мы побывали, – подземная церковь Константина и Елены, подразумевающая собой восточный склон Голгофы, куда сбросили крест после того, как с него сняли Иисуса. Император Константин спустя четыре века после библейских событий посылал экспедицию на его поиски, и, когда крест нашли, в том месте, как и здесь, забил источник. Мы примкнули к экскурсии, и всё в храме озарилось смыслами: тот чёрный булыжник, мимо которого мы проходили, оказался камнем поругания, где сидел Христос, облачённый в красную накидку, с терновым венком на голове, и выслушивал издевательские похвалы – такова была первая пытка, уготованная ему.
Затем мы поднялись по лестнице, где предполагалась Голгофа с крестом, сделанным ещё при патриархе Никоне; в военные годы его не успели вывести вместе с другими святынями, но нацисты, устроившие в храме военный госпиталь и гревшиеся церковной утварью, его почему-то на растопку не пустили.
Мы прошли через тяжеленные медные ворота, подаренные храму, кажется, царём Алексеем Михайловичем (одно то, что их кто-то установил, уже можно почитать за чудо), и спустились по лестнице в лабиринт маленьких помещений с низкими потолками. Здесь же была гробница Никона, как нам объяснили, разграбленная. От неё остался только широкий каменный саркофаг. Над ним висела длинная вытянутая икона с изображением нескольких святых, среди которых был и Никита Столпник. Поняв, что лучше места не найти, я поставил свечку в ближайшее кандило.
Вместе с экскурсионной группой мы поднялись по лестнице и снова оказались под высокими потолками основного храма. Меня такая пространственная коллизия немного удивила, но потом я вспомнил, что всякий духовный путь кончается там же, где он начинается, и успокоился. Мы подошли к чёрной каменной плите под сводчатой сенью, и гид представил её нам: на ней лежал Христос в пещере, место в которой оплатил какой-то меценат-христианин, чей лик смотрел на нас со стены поблизости. Здесь можно было освятить нагрудный крест, положив его на эту самую плиту. Перед тем, как это сделать, я малодушно огляделся. Монтэга уже не было рядом – он, как шёпотом объяснил Прокофий, вышел поговорить по телефону. Терпя раскалённые иголки чужих взглядов (впрочем, вероятнее всего, воображаемых), я положил на зарядку свой крестик и через несколько секунд снял.
Ещё немного пройдя по храму, мы остановились в арке, расписанной фресками; гид посоветовал всем зайти внутрь храма гроба Господня, рядом с которым мы стояли, и стал объяснять смысл изображённого на фресках. Одна из них посвящена событиям уже после воскрешения Христа: фарисеи отстёгивают свидетелям воскресения за то, чтобы они говорили народу, что это апостолы украли тело своего учителя. А в это время сам Он, в небесном сиянии, окружённый ангелами, вполне по-терминаторовски надвигается на синедрион. Две пожилые женщины из числа слушателей ещё задали гиду пару казусных вопросов о благодатном огне, и на этом экскурсия закончилась.
Мы с Прокофием ещё немного побродили по храму, после чего наконец вышли на свет божий, хотя, если вдуматься, – во тьму дьявольскую. Монтэг как раз в этот момент закончил разговаривать, и мы двинулись к воротам, снова заведя наш давний пантеистический разговор.
Однако, только мы зашли за ворота, начался ливень, загнавший нас на крыльцо какого-то жёлтого здания. Его с нами делили ещё две девушки, как оказалось, француженки. Влекомый привычным желанием испытать себя и свой второкурсный французский, я хотел было заговорить с ними, расспросить, что они тут делают, да ещё в такое нелётное время, – но застенчивость и мнительность надёжно запечатали мой рот. Ограничился я лишь тем, что смешливым полушёпотом сообщил ребятам о национальной принадлежности наших товарищей по несчастью.
Дождь чуть поутих, и мы переместились под козырёк хлебной лавки по ту сторону мощёной дороги. Туда скоро последовали и француженки, только в отличие от нас они всё же отоварились в лавке, объяснившись с продавщицей на довольно уверенном русском. Поняв, что погорячился, когда говорил о них в третьем лице в их присутствии, я поспешил спрятаться за спинами друзей.
Дождь полил на бис, захлестывая за козырёк, после чего стих уже окончательно. Тогда мы вспомнили, что давно не ели и, решив отобедать в церковной трапезной, направились обратно к воротам монастыря.
Перед белым одноэтажным зданием туалета, куда все зашли, мне позвонила мама, и обед, ожидавший нас в соседнем доме, отсрочился ещё минут на пятнадцать. Я рассказал маме о том, что мы встретили француженок, но не решился с ними заговорить. Мама укоризненно запричитала, после чего стала рассказывать историю из своей юности, как она раз и навсегда поборола свою робость: дело было в пансионате, она приглядела красивого парня, но заговорить с ним не решалась. Зато у неё там появилась подруга, Ира, и вот она была девушка, что называется, без комплексов и легко со всеми знакомилась. Мама стала активно у неё учиться, предчувствуя, что скоро Ира доберётся и до Паши, того самого парня. И вот однажды, когда две подруги шли мимо скамейки, на которой сидел Паша, мама собралась с духом и спросила его: «А что ты тут сидишь?». Так они и познакомились. Правда, не с моим папой, а за двух до него. Выслушав эту историю, я сквозь насмешливый хохот сказал, что лучше уж буду и дальше молчать, скрываться и таить, чем городить такое. Мы ещё немного посмеялись друг над другом с едва различимой ноткой упрёка, и я повесил трубку.
Цены в трапезной были, скажем прямо, богохульные: гороховый суп и гречка с котлетками обошлись мне рублей в четыреста. Видимо, доплачивали мы за обстановку – она здесь была действительно благодатной и давала почувствовать себя чуть чище, чем ты есть на самом деле.
Мы поели и снова вышли за чугунные ворота монастыря – на этот раз уже насовсем.
Пока мы плавно спускались всё ниже и ниже по мощёной дороге в бренный дольний мир, Монтэг говорил, что впечатления от храма у него, как и всегда, какие-то странные, смутные, что их надо переварить. Впрочем, переварить нужно было не только их: после сытной трапезы ногам – по крайней мере, моим – ходилось тяжеловато.
Мы опять двинулись в случайном направлении. Шли по дорожкам, петлявшим по лесистым холмам, и говорили о моей книге «Друг» – отец Монтэга её прочёл и подтвердил, что это именно книга. Все неловкие вопросы о схожести лирического героя и автора остались висеть в воздухе.
Шли по железному мосту над какой-то заросшей рекой, поднимались по скалящемуся лестницами склону вдоль автомобильной дороги, и Монтэг рассказывал нам про свой недавний опыт работы фотографом на студенческой вписке, и не только рассказывал, но и показывал, щелкая наиболее удачные снимки. Они были действительно удачными: хмельные, масляно-улыбчивые лица студентов окружало неземное голубоватое гало высокой выдержки.
Так мы дошли до станции «Новоиерусалимская». Увидев её, мы воспротивились столь раннему окончанию нашей поездки – время было, кажется, только ближе к семи – и решили пройтись по пыльной землистой дороге, уходившей от основной под прямым углом и ведшей, как нам казалось, в какой-нибудь посёлок. Начавшийся снова дождь чуть было не развернул нас, но, немного покрапав, он кончился, а мы пошли дальше, вдоль сплошных металлических заборов, за которыми высились уродливые, изъеденные временем промышленные бараки. Но шли мы недолго, потому что вскоре поняли, что дорога это не ведёт никуда, кроме как на грязные задворки трудовой жизни. Развернулись и двинулись обратно – к станции «Новоиерусалимская».
Ожидая электричку, говорили о моей новой книге, которую я подарил ребятам ещё вначале поездки, и о важности выбора правильных имён для персонажей: мол, авторы путают имена одних и тех же героев уже на следующей странице просто потому, что называют их абы как, без особого смысла, хоть даже сугубо личного.
Уже сидя в поезде, слушали рассказы Монтэга о РАНХиГСе и его обитателях, о зачётных в сугубо академическом смысле злоключениях и студенческой жизни вообще (а точнее – об её отсутствии).
Путь обратно, как всегда, оказался короче пути туда, и, очнувшись от разговора, мы вышли на станции «Стрешнево», чтобы пройти через наш заклятый парк к дому Прокофия на Октябрьском Поле.
Солнце спряталось за росшими вдоль путей деревьями, окрасив небо в розово-персиковые, будто стены в старой детской больнице, цвета.
Мы шли по парку и, каким-то образом переключившись на тему пейнтбола, осуждали тех, кто из-за гнойной ностальгии по старым добрым мохнатым и клыкастым временам в него играет.
На выходе из парка почему-то вспомнили про Познера, и Прокофий сказал, что видел его в Доме Музыки, на концерте, посвящённом столетию… «Познера?» – перебил своим вопросом Монтэг, и все посмеялись: мы – отчаянно, уже и не надеясь на прощение после очередного посягательства на рассказ Прокофия, а Прокофий – улыбчиво закипая.
Весь остаток пути я делился впечатлениями от просмотренной мной документалки про Билли Айлиш, прихорашивая этот, в сущности, детский лепет умными казёнными словами.
У самого дома Прокофий, как обычно, пригласил нас зайти, и мы, как обычно, немного поёрничав – мол, как неожиданно, – согласились и вошли в маленькую, тесную, как хоббитова нора, но такую же, как она, уютную квартиру на первом этаже, по которой дымчатыми облаками плавали три огромных кошки: два мейн-куна и одна старательно под них переедающая.
Пили облепиховый чай, ели приготовленный отцом семейства ужин, разговаривали с сестрой Прокофия, слишком нормальной для нашей компании, пытаясь всё же вовлечь её в наше веселье, и всё это, как обычно, было лишь прелюдией к квартирнику, когда к каждому из нас поочерёдно переходит в руки гитара. Из необычного было только то, что Монтэг воздержался от исполнения, сославшись на усталость, и завершили концерт мы, не дожидаясь, пока это деликатно сделают родители.
Часов в двенадцать мы с Монтэгом вышли в тёплую бархатистую темноту майской ночи и побрели домой нашим привычным маршрутом – через старые, укрытые уже распушившейся листвой дворики, вдоль широкой дороги на улице Народного Ополчения, смолкшей в этот поздний час до шелеста одиноко мчавшихся машин, через переход МЦК, словно забытый здесь инопланетянами, и наконец мимо молчаливых сталинок с круглыми оконцами под самыми крышами, таившими за собой, как мне всегда казалось, бездну историй, которые и за целую жизнь не переживёшь…
Войдя во двор Монтэга и по опыту прошлых раз притихнув, чтобы не потревожить соседей, мы договорили всё недосказанное, расставили все точки, у которых так и резались загогулины запятой, и распрощались.
Я шёл домой через Посёлок Художников, и всё вокруг – эти домики, утопавшие в зелени, этот далёкий гул никогда не спящего города, этот воздух, напоенный цветочной дрёмой, и эта ночь, переполнявшая грудь какой-то босой неумытой свободой – было настолько красиво, что мне стало обидно, как никогда прежде обидно, что всё проходит и пройдёт: и эта ночь, и это ещё не начавшееся даже лето, и Посёлок, который однажды всё-таки закатают, как останки чернобыльцев, под бетон, – и я. Мне стало холодно, но это был нежный, остужающий холод. Сердце сдавила тоска, но это была самая сладкая и упоительная тоска из всех возможных. Я подошёл к деревянному забору, над которым нависала ветвь сирени, привстал на цыпочки и, как, ребёнок, прижимающийся к груди матери, уткнулся носом в душистое соцветие.