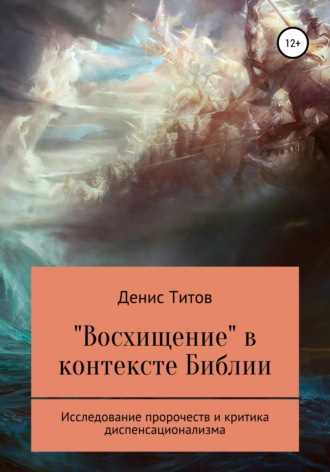 полная версия
полная версияПолная версия
«Восхищение» в контексте Библии – исследование пророчеств и критика диспенсационализма
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Филадельфийская церковь давно прекратила своё существование. В связи с этим некоторые недоумевают, как может Господь сохранить её от искушения, которое ей уже не грозит. Однако в этом содержится некое эсхатологическое послание всем церквям (3:13). И те, кто отстаивает "доскорбное" восхищение справедливо рассматривают этот текст в таком ключе. Но, как мы уже показали, их ошибочное представление состоит в том, что сохранить «от» годины искушения может означать избавить, восхитив на небо!
Предлог «от» в Откр. 3:10, по мнению претрибуляционистов, свидетельствует о том, что святые не застанут годину искушения, и о полном избавлении посредством восхищения их на небо. Собственно, этот предлог для таковых теперь и остаётся единственной опорой, и к тому же имеющей отношение исключительно к грамматике языков. Если бы в наших Библиях вместо «от» было сказано «из» (из годины искушения), то это означало бы для них, что церкви Божьи всё-таки застанут время искушения. Однако ни у кого не возникает сомнения в том, что люди в Откр. 7:14 пришли на небо из великой скорби, хотя тоже стоит предлог «от»! В обоих случаях это греческий предлог «эк». И этот момент следует осветить подробно.
В Откр. 3:10 не стоит предлог «апо» (который переводится – от/ из/ с). Во всех вариантах греческого текста в этом стихе всегда предлог «эк», который в словарях переводится – из/ от/ с. «Учебник греческого языка Нового Завета» издательства РБО даёт лишь основной перевод обоих этих предлогов: «апо» – от, «эк» – из. Обращаясь к греческому тексту Откр. 3:10 мы находим словосочетание "тэрэсо эк" – сохраню из, что в силу особенностей языка следует переводить как сохраню от. Но всё же это не «апо», а совершенно иной предлог «эк», указывающий, как правило, на положение объекта внутри обстоятельств, а не вне, как если бы это был предлог «апо».
Вот пример перевода обоих предлогов, который поможет разобраться в их значении: «И ниспал огонь с неба (эк) от Бога (апо) и пожрал их» (Откр. 20:9).
Теперь мы можем проследить за тем, как используется интересующий нас предлог в греческом тексте в некоторых ближайших стихах:
Откр. 3:9 – "Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища…"
Откр. 5:7 – "взял книгу из десницы Сидящего на престоле"
Откр. 6:1 – "Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных"
Откр. 10:10 – "И взял я книжку из руки Ангела"
Во всех этих стихах используется тот же греческий предлог «эк». Приведём несколько слов, в которых этот предлог стал частью слова. Обратите внимание на перевод:
Эклектос – избранный
Эктрома – изверг (недоношенный)
Экпсихо – испускать дух
Экридзоо – искоренять, вырывать с корнем
Экпалаи – издавна, издревле.
Таким образом, с учётом стихов Откр. 3:10 и 7:14 приведены все три варианта значения предлога «эк» – из / от / с. Все они указывают на исходную точку не за пределами чего-либо, а внутри. Если бы в рассматриваемом нами Божьем обетовании (3:10) стоял предлог «апо», то это несколько усилило бы позицию претрибуляционистов. Но библейский контекст в целом лишь ослабевает её.
А праведного Лота, утомлённого обращением между людьми неистово развратными, избавил, – ибо сей праведник, живя между ними ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, – то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда… (2Пет. 2:7-9).
Греческий предлог «эк» здесь снова переведён русским «от» (ст. 9). А примером избавления "от искушения" стал Лот, утомлённый обращением между людьми развратными, душевно измученный, но впоследствии избавленный Богом от всего этого. Говоря "от этого", мы, конечно же, имеем в виду "из этого", так как Лот находился внутри этих скорбных обстоятельств.
А вот в отношении Божьего гнева, который последует за всеобщим испытанием, мы можем с уверенностью утверждать, что следует использовать предлог «апо», так как детей Своих от Божьего гнева Господь избавляет полностью: «…и ожидать с небес Сына Его… Иисуса, избавляющего нас от (апо) грядущего гнева» (1Фесс. 1:10).
1Фесс. 1:10 (апо)
Откр. 3:10 (эк)
Именно в таком ключе следует рассматривать обетование Христа, данное Филадельфийской церкви. Это обязательство свыше, данное тем, кто в назначенное время проявит стойкость и сохранит мужество, как требует того Христос: «И как ты сохранил слово терпения Моего (стойкость, мужество) то и Я сохраню тебя…».
Филадельфийцы, которым первоначально адресовано послание, находились внутри скорбных обстоятельств, не имея много силы. В будущем же, оказавшись внутри обстоятельств, ещё более угрожающих, все мы имеем от Господа это обетование. И если в Откр. 3:10 оно звучит недостаточно ясно, то в Откр. 2:10 оно звучит предельно ясно: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». (см. также Откр. 12:11).
Таким образом, мы видим, что поверхностная интерпретация вырванного из контекста стиха Откр. 3:10 (в угоду распространённому новому учению) может оказаться, что называется, себе дороже, ведь в реальной жизни ничто не обходится так дорого, как самообман. Ставший популярным стих Откр. 3:10 не является аргументом в пользу претрибуляционного учения. Маленький греческий предлог показывает масштаб проблемы: година искушения застанет всех живущих на земле (Откр. 13:7б), включая детей Божьих (Откр. 13:7а), и не замечать это предупреждение грозит оказаться неготовым проявить стойкость и мужество в нужный момент.
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
₪ глава 8. Семь печатей
Посредством пророчеств Библия открывает людям не только очертания будущего, но настоящего и прошлого. В Откр. 5 символически изображено центральное место Христа в истории. Лишь Агнец был достоин взять свиток и сломать на нём печати. Но многие, подобные этому, пророчества в палитре христианских воззрений имеют весьма различное наполнение. Нет и единого понимания значения семи печатей. Некоторые исследователи странным образом видят смысл этих печатей в так называемом домостроительстве Божьем. Другие утверждают, что семь печатей показывают «великую скорбь». Одним это пророчество видится распростёртым на века, а другие представляют его отражением исключительно нескольких последних лет. Представители различных школ толкования по-разному объясняют значение этих пророческих образов. Среди них есть те, кто считает, что печати «Откровения» – это суды, подобно десяти казням в Египте. Однако применительно к первым пяти печатям ни слов о суде, ни каких-либо других выражений, указывающих на казни или гнев Бога, нет. Вместе с тем 5-я печать свидетельствует о том, что Господь ещё не начал судить (Откр. 6:10), и это первое, что указывает на ошибочность такого мнения. Аллюзия на египетские казни в большей степени просматривается в событиях, описываемых в главах 8-9, 15-16 (семь труб и семь чаш), которые нередко связывают с последней печатью. И в этой аллюзии, как не странно, обнаруживается связь образов и символов «Откровения» с искуплением.
Цитата: "Великим прообразом искупления является заклание пасхального агнца в Египте и помазание его кровью перекладины и косяков дома. Благодать послала агнца, а вера применила кровь, ибо «верою совершил он Пасху и пролитие крови [Моисей], дабы истребитель первенцев не коснулся их» (Евр. 11:28). Так Израиль стал, образно, "искупленным народом"." (Филипп Мауро, «Руфь, искупленная чужеземка», Христианское просвещение, 2008).
Игнорируя искупительное значение пророчества, комментарии Апокалипсиса изобилуют беспорядочными идеями. Реалистичным выглядит исторический подход к истолкованию семи печатей как отображающих христианскую эпоху. Например, первая печать – это начало распространения Евангелия. Исторический подход основан на древней традиции, но трудно сказать, насколько правдоподобны некоторые его аргументы. Не все согласны с тем, что всадник на белом коне – это Сам Христос. «Четыре всадника» представляют собой некое литературное единство, внутри которого кажется неправдоподобным указание на отдельную личность. И отсюда другая крайность, она обнаруживается во взглядах определённого числа футуристов: всадник на белом коне – это антихрист; именно крайность, так как антихриста при желании можно увидеть в любом из четырёх всадников и с не меньшим успехом пытаться это обосновать. Исторический подход в определённом смысле является и эсхатологическим, так как четырьмя всадниками выражена христианская эпоха, а это, по Писанию, последние века! Впрочем, это уже тема следующей главы нашей книги.
В отношении книги, запечатанной семью печатями, дело обстоит ещё менее определённо. Кем-то утверждается, что книга эта содержит некий Божий замысел. Другие представляют её чем-то вроде уголовного дела, открывающего Божьи суды. Такие исследователи «Откровения», как Канатуш, Немцев и другие, в книге за семью печатями видят само «Откровение», или какую-то её часть. Запечатанную книгу Канатуш представляет читателю состоящей из семи частей-свёртков, где на каждом по одной печати. Открывая их одну за другой, можно видеть очередную часть содержания Апокалипсиса. Подобные мысли по поводу запечатанной книги высказывал ещё А. П. Лопухин в своём толковании Библии, ссылаясь, в свою очередь, на западных богословов. Утверждения этих авторов по поводу запечатанной книги, а также ряд других идей в самом «Откровении» никак не отражены.
Вернёмся теперь к теме искупления. Некоторые авторы полагают, что снятие печатей с искупительной книги означает переход власти над вселенной из одних рук в другие. Эти руки принадлежат «второму человеку», или «последнему Адаму» – Христу.
Цитата: "Представляется, что через обман дьявола, который добился падения Адама, власть над этим миром перешла от человека к ангелам, и к тому же, к злым ангелам. «Диаволу и ангелам его» – таково представление Писания этих сил, тогда как дьявол называется богом и князем мира сего, и в его заключительной идентификации – «дракон, змий древний, который есть диавол и сатана» (Откр. 20:2). В Божьем управлении посредством Его провидения Его святым ангелам поручено в нынешнем мире невидимое, но действенное служение в интересах Его искупленных (Евр. 1:6-14). Дальше мы читаем о Михаиле и его ангелах, как будто архангел командовал ими, и мы читаем о конфликте между святыми и силами зла. Писания не осведомляют нас о каждой детали, но мы можем заключить, что Бог подчинил этот нынешний мир ангельскому служению, в некотором смысле, для служения и для пользы человеку. Но так как Богочеловек, Родственник-Искупитель Своей искупительной ценой приобрёл наследие и доказал, что Он достоин снять печати с его документа о передачи правового титула и взойти на престол (Откр. 5), то «не Ангелам Бог покорил будущую вселенную», но «второму человеку – Господу с неба»." (Джон Уилмот, «Толкование библейских пророчеств о последнем времени», Христианское просвещение, 2010).
Затем следует снятие печатей, одной за другой. Снятие каждой из них не приводит к событиям текущего времени, но отражает его сущность. Важно, что оба пришествия Христа имеют сугубо эсхатологическую природу: они служат фоном всей разворачивающейся драмы. А семь печатей отражают существующий мировой конфликт, в ходе которого владения землей лишаются те, "кто долго злоупотреблял ею, кто наполнял её развратом, жестокостью, пагубой, несчастьем и всякой несправедливостью… А звучание труб приветствуется как время, когда «царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его», и когда Бог «погубит губивших землю» (Откр. 11:15-18)." (Ф. Мауро, «Руфь, искупленная чужеземка»).
Божий гнев является одной из главных тем «Откровения». Его объектом станут "дракон", "зверь" и "лжепророк", а также народы, все превозносящиеся и противящиеся Богу (20:8-10). Неизбежность Божьего гнева и необходимость суда вытекают из всего Писания, но окончательно они воплощаются в глазах читателя только со снятием шестой печати. Объём содержания этой темы в «Откровении» многократно превышает содержание, относящееся к первым пяти печатям, показанным всего в одной главе.
Отметим здесь, что иногда значение шестой печати ошибочно переносят на седьмую, пытаясь таким образом соединить семь печатей и последующие семь труб в логическую цепь. Однако именно структура «Откровения» более всего затруднительна для большинства, при том, что эта книга состоит из ясно различимых восьми сцен (этот вопрос хорошо раскрывает Майкл Уилкок в своей книге «Откровение Иоанна Богослова», Мирт, 2000). Итак, шестая печать – это гнев Божий и суды. Седьмая – конец мира, аналогично седьмому дню творения, когда Бог почил.
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Как бы мы не трактовали видение семи печатей, невозможно ошибиться в том, что главным объектом этого пророчества является мир и общество. Но есть ли тут место святому народу Христа? Отвечая на этот вопрос, обратимся к стихам, посвящённым шестой печати. Здесь, как и в синоптических Евангелиях (Матфея, Марка и Луки), говорится о знамении пришествия (6:12-17). Ранее мы выяснили, что до этого момента святые-избранные на земле! А видение, в котором они представлены после восхищения, находится уже в следующей 7-й главе.
Кроме этого, о восхищении, конечно, символично и образно, мы находим в 14-й главе. После предупреждения о поклонении «зверю» сказано: «жатва на земле созрела» (14:15). «Сын Человеческий на облаке» – это традиционный парафраз, то есть описание Иисуса Христа как грядущего Судьи. Господь потрясёт землю и поколеблет небо! Увидев Господа, одни будут восхищены (Откр. 7:9, 14:1), а другие станут прятаться, так как у них не останется сомнения в отношении того, Кто перед ними, и чем это им грозит (Откр. 6:16-17).
Итак, «земля была пожата» (Откр. 14:16, 19). В евангельской притче были плевелы (сыны лукавого), здесь же использована иная метафора: грозди винограда. Таким образом акцент снова ставится на «гневе». Огонь, гнев, точило вина ярости – всё это повторение контуров эсхатологии Ветхого и Нового Заветов. Здесь Иоанн видит Ангела, имеющего власть над огнём, выходящего от жертвенника (14:18), но кем были истоптаны ягоды в точиле за городом (14:20)? Глава 19 показывает это: «Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует», «Он топчет точило вина ярости и гнева» (19:15). И это уже последнее видение пришествия Христа. По истине день этот будет великим и страшным.
День Господень, которого мы желаем и ожидаем, показан в образе жатвы, той самой, которая суть "кончина века" (Мф. 13:39). Жатва нераздельна, она станет окончанием века сего как для сынов Царства, так и для сынов лукавого.
Перенесёмся ненадолго в прошлое, туда, где образ жертвенника и, словно пролитая кровь под ним, показаны «души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели» (Откр. 6:9-11). При снятии пятой печати им были даны белые одежды. Но так как число их ещё было неполным, а знамение в небе ещё не засвидетельствовало наступление кончины века (6:12), то им и сказано, чтобы они успокоились ещё на «малое время». Нет сомнения в том, что «белые одежды» им даны до времени воссоединения их с телом, то есть воскресения, до которого остаётся совсем немного, когда святой народ из всех народов земли будет показан в «белых одеждах» перед престолом Бога и Агнцем (7:9).
Комментирующие «Откровение» с исторических позиций утверждают, что Иоанн видел под «жертвенником» души мучеников всех времён. Таким образом, мы видим три последние логически связанные между собой печати: голос убитых мучеников, возмездие грешникам при наступлении кончины века, конец мира. Подобное толкование мы считаем достаточно ясным и обоснованным.
На этом мы должны остановиться, так как исследование вопроса времени восхищения, или хронологии событий этого времени, показаны в полноте. Далее представлены темы, которые помогут читателю расширить взгляд и увидеть некоторые другие аспекты, составляющие суть библейской эсхатологии. Содержание последующих глав этой книги может оказаться познавательным и полезным, в отличие от представлений, навеянных футуристическим богословием сомнительных диспенсационалистских учений.
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
₪ глава 9. Эсхатология
Эсхатология (от греч. эсхатос – последний) – это система религиозных представлений о конце мира, традиционно определяемая в христианстве как учение о "последних днях". Одним из наиболее важных и основополагающих элементов библейской эсхатологии является второе пришествие Иисуса Христа. Писание неизменно определяет это время как «день Господень», подразумевая наряду с неотвратимостью Божьего суда явление грядущего Христа, которое станет по-настоящему переломным моментом в истории человечества. Это явление (эпифанея) составляет саму суть нашего понимания пришествия Христа. Однако «пришествие» у Матфея, Павла, Петра и Иакова – это, прежде всего, греческое слово пароусия. Это существительное неравнозначно глаголу ерхомаи (приходить), производные которого иногда переводятся словами – грядёт, грядущий и т. п. Пароусия имеет более широкое значение, и дополнительный смысл этого слова состоит в присутствии, пребывании (так это слово переведено в Флп. 2:12). Это пребывание подобно тому, что было во время нахождения Христа с учениками в 1-м веке. Следующая пароусия Христа станет Его единением со святыми в будущем.
Вместе с этим мы определяем «день Господень» и как время полного прекращения общественной, политической, культурной и экономической жизни людей и всей системы ценностей того земного царства, которое в эсхатологии «Апокалипсиса» отождествляется с «царством зверя» (Откр. 16:10). Этот «день» положит конец существованию и той духовной среды, которая определяется как «смерть и ад» (Откр. 20:14, 1Кор. 15:25-26).
Однако в этой главе мы не хотели бы ограничиваться рассмотрением лишь традиционной, или «футуристической» эсхатологии ввиду того, что такое ограничение не способствует восприятию эсхатологической природы Библии в целом. Вслед за общей эсхатологией Ветхого Завета внимательный взгляд исследователя неизбежно фиксирует её начальную, новозаветную реализацию – так называемую «эсхатологию начального осуществления». Автор книги «Библия и будущее» профессор Энтони Хукема поясняет: "Выражение эсхатология начального осуществления подразумевает, что эсхатологическая реальность началась, но ещё не достигла своего завершения". Напряжение между «уже» и «ещё нет» в новозаветной эсхатологии отмечается многими современными богословами, и это оправдано хотя бы тем, что Сам Иисус Христос объяснял, что Царство Божье пришло, оно относится как к настоящему, так и к будущему, а вечная жизнь – это и то, чем верующие обладают уже сейчас, и то, на что они надеются в будущем.
Вера ветхозаветных святых имела эсхатологическую ориентацию. В самом сердце эсхатологической надежды было ожидание грядущего искупителя. Таким образом, центральным событием эсхатологии начального осуществления является пришествие Мессии.
Цитата: "Величайшее эсхатологическое событие истории – не в будущем, а в прошлом. Поскольку Христос в прошлом одержал решающую победу над сатаной, грехом и смертью, будущие эсхатологические события следует воспринимать как завершение искупительного процесса, который уже начался. Иными словами, то, что произойдёт в последний день, будет лишь кульминацией того, что уже произошло в эти последние дни" (Э. Хукема, «Библия и будущее», Евангелие и Реформация, 2020).
Позже мы обратимся к Писанию для того, чтобы выяснить, какие значения вкладывают библейские авторы в эсхатологическую фразу «последние дни». Теперь же следует уделить внимание её основному значению. Назовём этот период эпохой Евангелия.
Период истории от первого пришествия («начало Евангелия Иисуса Христа») и до второго Его пришествия (когда «Евангелие Царствия» будет проповедано по всей вселенной – «и тогда придёт конец») является настоящей эпохой Евангелия. В этот период особой благодати каждый человек имеет возможность духовного возрождения со вступлением в Царство Божье, пришедшее в силе (Мк. 9:1, Деян. 1:8). Вслед за духовным воскресением (Кол. 3:1, Еф. 2:5-6) в конце этой эпохи последует второе воскресение – телесное (Кол. 3:4, 1Фесс. 4:16). Это будет момент, когда все избранные для вечной жизни окончательно достигнут небес и вечной славы. Концом этой эпохи будет второе пришествие Христа и телесное воскресение в «последний день» (Ин. 6:39-40). Именно об этом говорится в первом Послании к Коринфянам словами: «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут… первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его; а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу» (15:22-24). И в этом простом изложении Писания легко заметить отсутствие некого эсхатологического аспекта, а именно – земного отрезка времени в тысячу лет.
Ожидание тысячелетнего царства, присущее некоторым группам христиан и сектам, аналогично верованиям ортодоксальных религиозных евреев, ожидающих Мессию и последующее мессианское царство. Диспенсационалистами полностью сохранена идея богоизбранности евреев, так как основополагающим постулатом диспенсационализма является ложная идея о том, что Христос пришёл на землю, чтобы дать Израильскому народу земное господство. То, что Он не смог сделать в первое Своё пришествие, Он осуществит во второе пришествие, установив тысячелетнее царство. Учение о земном тысячелетнем царстве, ныне преобладающее в баптизме, представляет собой догматический буквализм. Оно противоречит не только библейской эсхатологии, но и сути всей Библии, которая состоит в том, что на смену всех земных царств (где царит грех) приходит Царство Божье – Небесное. Среди тех задач, которые только можно обнаружить в Писании относительно как первого, так и второго пришествия Христа, установление Им земного царства не просматривается. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (Евр. 10:12). Из приведённого высказывания следует, что Царство Христа на небесах! Это духовная сфера. Именно поэтому Божье Царство, о котором проповедовал Иисус, а также Иоанн предтеча, говоря, что оно приблизилось, называется «Небесным» (Мф. 3:2, 4:17), и во всём Новом Завете совершенно ничего не сообщается о Царстве земном. Мало того, необходимо совершенно отбросить допущение баптистов-диспенсационалистов, что Царство Небесное и Царство Божье – это разные категории, поскольку Христос понимал это как одно (см. Мф. 19:23-24). Итак, проповедь Христа характеризует Царство как важнейший элемент эсхатологии начального осуществления, поскольку Царство уже пришло (Мф. 12:28).
Диспенсационалисты, отстаивая герменевтику буквализма, утвердили разделение Царства на земное и небесное буквальным образом. При этом «Царство Божье» – это обобщённое понятие, несущее морально-этический аспект в Евангелии. Таким образом, «земное» тысячелетнее царство, которое должно предшествовать «небесному», играет ключевую роль в эсхатологии диспенсационализма. Однако обоснование подобного сценария у большинства христианских богословов вызывает сомнение.
Но различия в позициях по вопросу о тысячелетнем царстве среди богословов зависят, прежде всего, от толкования стихов Откр. 20:1-10, где употреблены выражения, которые могут быть наполнены различным содержанием. А также от установления последовательности событий, описываемых в этих стихах 20-й главы и последних стихах 19-й главы. В то время как параллелизм этих стихов определяет истинное значение их содержания, помещение их в хронологическую связь порождает идею, чуждую Новому Завету – идею земного тысячелетнего царства (миллениализм). Для доказательства этой идеи в качестве следующего шага герменевтика буквализма применяется уже к пророчествам Ветхого Завета, систематизируя миллениалистское богословие вдали от раздела эсхатологии. Необходимо, однако, учесть, что пророчества Ветхого Завета, на которые считают уместным ссылаться для доказательства идеи земного царства, могут расцениваться как правильно понятые лишь в том случае, если это согласуется с Писаниями Нового Завета. Но ни в Евангелиях, ни в Посланиях, да и в «Откровении» тоже этот вопрос совершенно не освещается. Те, кто с упорством отстаивают идею земного царства, ошибочно основываясь на пророчествах Ветхого Завета, просто не учитывают того, что те пророческие образы и предзнаменования в своём большинстве относились к духовной реальности Божьего нового творения во Христе Иисусе в нынешнюю эпоху! Говоря об этих образах, мы можем начинать уже с Адама, который был образом будущего (Рим. 5:14). Первый Адам был предзнаменованием "последнего Адама". Израиль по плоти был пророческой тенью "Израиля Божия" (Гал. 6:12-16). Ну и, конечно же, ветхозаветные пророчества сообщали о небесном. Священники, приносящие дары и жертвы по закону Моисея, служили образу и тени небесного (Евр. 8:4-5). Сион и Иерусалим на земле также имели свою небесную и вечную аналогию. А ветхие земля и небеса являются тенью новых!



