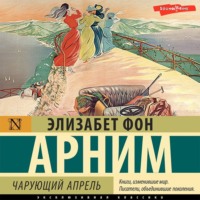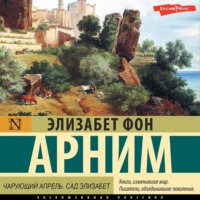Полная версия
Колдовской апрель
День был отвратительный, ветреный и сырой, на переезде было мерзко, и они чувствовали себя очень плохо. Но когда они прибыли в Кале, и дурнота отступила, на них впервые нахлынуло ощущение великолепия, роскоши того, что они задумали, и это ощущение согрело их души. Первой поддалась ему миссис Уилкинс, а затем оно окрасило розовым пламенем и бледные щеки ее компаньонки. Здесь, в Кале, Меллерш – а они восстановили силы камбалой, потому что на том настояла миссис Уилкинс: разок отведать камбалы, которая не достанется Меллершу, – здесь, в Кале, Меллерш как бы истончился и стал казаться менее внушительным. Никто из французских носильщиков их не знал, ни одному из таможенников в Кале Меллерш не был интересен ни капельки. В Париже у нее не было времени о нем думать, потому что их поезд опоздал, и они едва успели добраться до Лионского вокзала, с которого отходил поезд до Турина, и к вечеру следующего дня они уже были в Италии. Англия, Фредерик, Меллерш, викарий, бедняки, Хампстед, клуб, «Шулбредс» – все и все, вся опостылевшая обыденность растаяла в мечтательном тумане.
Глава 5
В Италии, как ни странно, было облачно. Они-то ожидали яркого солнышка. Но тем не менее это была Италия, и сами облака выглядели как пух. Ни та, ни другая здесь раньше не бывали. Обе глазели из окон с восторженными лицами. Часы таяли вместе с дневным светом, они были взволнованы: вот уже ближе, вот уже совсем близко, вот они здесь! В Генуе начало накрапывать – Генуя! В это невозможно поверить: они в Генуе, вот и надпись на здании вокзала, совсем как на каком-нибудь обычном вокзале, обычное название станции… В Нерви уже шел сильный дождь, а в Медзаго, куда они прибыли к полуночи, потому что и этот поезд опаздывал, лило как из ведра. Но это была Италия. Ничего плохого здесь не могло случиться. Даже дождь был другой – прямой, честный, падающий точно на зонтик, а не этот злобный английский дождь с ветром, пробирающийся повсюду. И он заканчивался, и тогда земля расцветала розами.
Мистер Биггс, владелец Сан-Сальваторе, сказал: «Поездом до Медзаго, а потом в экипаже». Но забыл – хотя и сам с этим сталкивался – что поезда в Италии иногда опаздывают. Он-то предполагал, что его постоялицы прибудут по расписанию, в восемь вечера, и возле станции еще будет полно пролеток.
Поезд опоздал на четыре часа, и когда миссис Арбатнот и миссис Уилкинс по крутым выдвижным ступеням спустились из своего вагона в черную слякоть, подолы у них тут же промокли из-за того, что руки были заняты чемоданами, и, если бы не бдительность Доменико, садовника из Сан-Сальваторе, довезти их было бы некому. Обычные наемные пролетки давно разъехались. Доменико же, предвидя это, выслал за ними пролетку своей тетушки, правил которой ее сын, то есть его кузен, а тетушка с пролеткой обретались в Кастаньето, деревне у подножия Сан-Сальваторе, и потому, во сколько бы поезд ни прибыл, пролетка не посмела бы вернуться домой без тех, за кем ее отправили.
Кузена Доменико звали Беппо, и он возник пред ними из темноты как раз тогда, когда растерянные миссис Арбатнот и миссис Уилкинс размышляли над тем, что им делать дальше, потому что поезд ушел, носильщиков не наблюдалось, и им казалось, что они очутились не на вокзальной платформе, а посередине бескрайнего небытия.
Беппо, который как раз их искал, вынырнул из тьмы, бурно лопоча что-то по-итальянски. Беппо был очень приличным молодым человеком, хотя на вид таковым не казался, особенно в темноте и особенно в шляпе, поля которой закрывали ему один глаз. Им не понравилось, как он схватил их чемоданы. Едва ли это был носильщик. Однако, уловив в потоке слов «Сан-Сальваторе», и после того, как они с расстановкой и не раз повторили и «Сан», и «Сальваторе», поскольку это были единственные известные им итальянские слова, они поспешили за ним, не сводя глаз со своих чемоданов, спотыкаясь о рельсы, наступая в лужи, пока не вышли к дороге, где их ждала небольшая высокая пролетка.
Верх у пролетки был поднят, конь пребывал в задумчивости. Они залезли внутрь, и в ту же секунду – вообще-то миссис Уилкинс едва успела вскарабкаться – конь стремительно стартовал и понесся домой, без Беппо и без чемоданов.
Беппо помчался за пролеткой, оглашая ночь воплями, и успел схватить болтавшиеся поводья как раз вовремя. Он гордо объявил, что его конь всегда так себя ведет, поскольку является животным полнокровным и откормленным отборным зерном, а Беппо ухаживает за ним, как за своим сынком, но дамы, наверное, испугались – вон как прижались друг к другу. Однако сколько бы громко и много он ни говорил, они только ошарашенно на него смотрели.
Он все говорил и говорил, пристраивая рядом с ними чемоданы, уверенный, что рано или поздно они его поймут, особенно если он будет говорить погромче и сопровождать сказанное простейшими жестами, но они все так же молча на него таращились. У обеих, как он с сочувствием заметил, были бледные утомленные лица и большие усталые глаза. Красивые дамы, подумал он, и глаза, глядевшие на него поверх чемоданов – сундуков у них не было, одни только чемоданы – были все равно что глаза Божьей Матери. Единственное, что вновь и вновь произносили дамы в попытках привлечь его внимание, даже когда он уже вскарабкался на козлы и поехал, был вопрос: «Сан-Сальваторе?»
И каждый раз он убедительно отвечал: «Si, si, Сан-Сальваторе!»
– Откуда нам знать, что он везет нас именно туда? – тихо спросила миссис Арбатнот. Они ехали, как им казалось, уже довольно долго, прогрохотали по выложенным булыжником улицам спящего городка и выехали на серпантин, по левой стороне которого, как они могли различить во тьме, был низкий парапет, а за ним – бескрайняя черная пустота и шум моря. Справа вплотную к дороге подступало что-то темное и высокое – скалы, как они прошептали друг другу, огромные скалы.
Им было очень не по себе. Было так поздно. И так темно.
И дорога была такой пустынной. А вдруг колесо отлетит? Или им встретятся фашисты или те, кто против фашистов… Они горько жалели, что не заночевали в Генуе и не тронулись в путь утром, по свету.
– Но тогда это уже было бы первое апреля, – вполголоса произнесла миссис Уилкинс.
– И так уже первое апреля, – шепотом ответила миссис Арбатнот.
– Да, верно, – пробормотала миссис Уилкинс.
И они умолкли.
Беппо повернулся на козлах – они уже заметили эту его внушающую беспокойство привычку, поскольку за конем следовало присматривать внимательно, – и снова обратился к ним с речью, казавшуюся ему образцом ясности: он же даже местных словечек не употреблял и все сопровождал выразительной жестикуляцией.
Как жаль, что матери не заставили их в детстве изучать итальянский! Если б они только могли сказать: «Будьте добры, сядьте прямо и следите за лошадью!» Они даже не знали, как будет «лошадь» по-итальянски. Позорно быть такими невежественными!
Дорога вилась вдоль огромных скал, слева, между ними и морем, не было ничего, кроме невысокой ограды, и они, боясь, как бы чего не случилось, тоже принялись махать руками на Беппо, указывая вперед. Они всего-то хотели, чтобы он снова повернулся лицом к лошади, а он решил, что они просят его ехать быстрее, и последующие – чудовищные – десять минут он с удовольствием выполнял их указание. Он гордился своим конем, весьма прытким. Он привстал на козлах, взмахнул кнутом, конь рванул вперед. Мимо летели скалы, маленькую пролетку швыряло из стороны в сторону, чемоданы завалились, миссис Арбатнот и миссис Уилкинс вцепились друг в друга. Этот шум, грохот, раскачивание, подпрыгивание и тесные объятия продолжались до того места у въезда в Кастаньето, где дорога начала подниматься в гору, и, достигнув которого, конь, знавший каждый дюйм этого пути, вдруг остановился, из-за чего все в пролетке полетело вперед, а затем перешел на самый медленный ход.
Беппо, хохоча от гордости за своего коня, снова повернулся, чтобы насладиться их восторгом.
Но не дождался от прекрасных дам ответного смеха. Уставившиеся на него глаза казались даже больше прежнего, а лица в ночном мраке были молочно-белыми.
Но здесь, на склоне, по крайней мере, были дома. Не скалы, а дома, не парапет, а дома, и море куда-то исчезло, и звук его смолк, и дорога уже не была пустынной. Нигде, конечно, не было ни огонька, и никто не видел, как они едут, и все же Беппо, когда начались дома, крикнул дамам через плечо: «Кастаньето!», привстал, щелкнул кнутом и снова послал своего коня вперед.
«Мы скоро приедем», – подумала, взяв себя в руки, миссис Арбатнот.
«Мы скоро остановимся», – подумала, взяв себя в руки, миссис Уилкинс. Друг другу они не сказали ничего, потому что вряд ли что-либо можно было расслышать в свисте кнута, грохоте колес и воплях Беппо, подгонявшего коня.
Тщетно они напрягали взоры в надежде увидеть Сан-Сальваторе.
Они предполагали, что, когда деревня закончится, перед ними возникнут средневековые врата, через которые они въедут в сад. Перед ними гостеприимно распахнутся двери, из них хлынет поток света, в котором будут стоять – в соответствии с объявлением – слуги.
Пролетка вдруг остановилась.
Они смогли разглядеть только деревенскую улицу с маленькими темными домиками по обе стороны. Беппо бросил вожжи с видом человека, который точно никуда дальше не поедет, и слез с козел. В тот же миг словно из ниоткуда возник мужчина в сопровождении нескольких мальчишек, они окружили пролетку и принялись вытаскивать чемоданы.
– Нет, нет, Сан-Сальваторе, Сан-Сальваторе! – вскричала миссис Уилкинс, пытаясь удержать хоть один чемодан.
– Si, si, Сан-Сальваторе! – вопили они все разом и тянули чемодан на себя.
– Это не может быть Сан-Сальваторе, – сказала миссис Уилкинс, повернувшись к миссис Арбатнот, которая сидела, совершенно спокойно наблюдая, как исчезают ее чемоданы, с тем терпением на лице, которое она приберегала для меньших из зол. Она понимала, что, если эти испорченные люди решили присвоить ее чемоданы, ничего с этим она поделать не сможет.
– Полагаю, что нет, – признала она и не смогла удержаться от мысли о промыслах Божьих. Если уж они с бедной миссис Уилкинс все-таки добрались сюда, после всех проблем, трудов и забот, через дьявольские тропы экивоков и уловок, только чтобы…
Она заставила себя не думать об этом и мягко сказала миссис Уилкинс – пока тем временем юные оборванцы исчезли в ночи с их чемоданами, а человек с фонарем помогал Беппо откинуть полог – что обе они в руцех Божьих, и миссис Уилкинс, хоть и не впервые слышавшая эти слова, впервые их испугалась.
Им ничего не оставалось, кроме как выйти из пролетки. Никакого смысл сидеть в ней и твердить «Сан-Сальваторе» не было. Тем более что с каждым повторением голоса их слабели, а отзывавшиеся эхом голоса Беппо и второго мужчины оставались все такими же звучными. Ну что им стоило в детстве выучить итальянский! Тогда б они могли сказать: «Нам бы хотелось, чтобы вы подвезли нас к самим дверям». Но они даже не знали, как по-итальянски «двери». Такое невежество было не только постыдным – теперь они понимали, что оно еще и опасно. Однако из-за этого переживать сейчас бесполезно. Бесполезно просто оставаться в пролетке и пытаться отсрочить то, чему суждено случиться, что бы там ни было. Поэтому они вышли.
Беппо и второй раскрыли свои зонтики и вручили им. Это их слегка взбодрило, потому что вряд ли злодеи побеспокоились бы о зонтиках. Человек с фонарем, что-то быстро и громко говоря, знаками показал следовать за ним, а Беппо, как они заметили, остался на месте. Должны ли они ему заплатить? Вряд ли, если их намерены ограбить и, возможно, убить. Совершенно определенно, в таких случаях платить не следует. К тому же он привез их вовсе не в Сан-Сальваторе. Очевидно, что он привез их в какое-то другое место. К тому же он не проявлял никаких намерений получить плату – отправил их во тьму без единого протеста. А это, не могли они не думать, плохой знак. Он не попросил платы за проезд, потому что рассчитывает получить куда больше.
Они подошли к какой-то лестнице. Дорога обрывалась возле церкви и ведущих вниз ступеней. Человек держал фонарь низко, чтобы осветить им путь.
– Сан-Сальваторе? – перед тем, как решиться ступить на лестницу, снова еле слышно спросила миссис Уилкинс. Это, конечно, было бесполезно, но она не могла спускаться в полной тишине. Она была уверена, что средневековые замки никогда не строились у подножия лестниц.
И снова раздался бодрый вопль:
– Si, si, Сан-Сальваторе!
Они спускались осторожно, поддерживая юбки, как если бы они им еще пригодились. Вполне вероятно, что для них с юбками вообще все кончено.
Лестница заканчивалась дорожкой, круто спускавшейся вниз и выложенной плоскими плитами. Они не раз поскальзывались на мокрых камнях, и человек с фонарем, быстро и громко что-то говоря, их подхватывал. Подхватывал вежливо.
– Возможно, – тихо сказала миссис Уилкинс, – все будет в порядке.
– Мы в руцех Божьих, – снова произнесла миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс снова испугалась.
Они достигли конца тропы, и свет фонаря выхватил открытое пространство, с трех сторон окруженное домами. С четвертой стороны было море, лениво набегавшее на гальку.
– Сан-Сальваторе, – сказал человек, указывая фонарем на темную массу, словно обнимавшую воду.
Они напрягли зрение, но разглядели только эту темную массу и огонек где-то наверху.
– Сан-Сальваторе? – недоверчиво переспросили они, потому что не понимали, ни где их чемоданы, ни почему их заставили выйти из пролетки.
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они продолжили путь по тому, что показалось им причалом, прямо по кромке воды. Здесь не было даже низкого ограждения – ничего, что помешало бы человеку с фонарем, пожелай он, столкнуть их в воду. Однако он этого не сделал. Миссис Уилкинс снова предположила, что все в порядке, а миссис Арбатнот на этот раз и сама подумала, что, может, так оно и есть, и ничего о руцех Божьих не сказала.
Отблески фонаря плясали на мокрых плитах. Где-то слева, наверное, в конце пристани, светился красный огонек. Они подошли к арке с тяжелыми чугунными воротами. Человек с фонарем толкнул их, ворота открылись. В этот раз ступени вели не вниз, а наверх, и в конце лестницы начиналась дорожка, с обеих сторон подступали цветы. Самих цветов они не видели, но было понятно, что здесь их великое множество.
И теперь до миссис Уилкинс дошло, что, вероятно, пролетка не доставила их прямо ко входу, потому что здесь не было дороги, только пешая тропа. Этим объяснялось и исчезновение чемоданов. Она ощутила уверенность: как только они доберутся до верха, чемоданы уже будут их ждать. Сан-Сальваторе, похоже, все-таки располагался на вершине, как и положено средневековому замку. Тропа свернула, и они увидели над собой тот самый свет, который заметили еще на пристани, только теперь он был гораздо ближе и ярче. Она сообщила миссис Арбатнот о нахлынувшей на нее уверенности, и миссис Арбатнот согласилась: видимо, они и впрямь на месте.
И снова, но теперь голосом, полным надежды, миссис Уилкинс, указывая на темные очертания на фоне чуть менее темного неба, спросила:
– Сан-Сальваторе?
И на этот раз успокаивающе, ободряюще раздался ответ, ставший уже привычным:
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они прошли по мостику над тем, что, очевидно, было рвом, и ступили на ровную площадку, заросшую высокой травой и тоже явно всю в цветах. Мокрая трава хлестала по чулкам, невидимые цветы были повсюду. И снова они поднимались вверх, дорожка вилась между деревьями, воздух был полон цветочных ароматов, которые под теплым дождем стали еще слаще. Все выше и выше поднимались они в этой сладостной тьме, и красный огонек на пристани все отдалялся.
Тропа сделала поворот вдоль того, что показалось им мысом, пристань и красный огонек скрылись из вида, где-то слева, вдалеке, за черной пустотой, виднелись огоньки.
– Медзаго, – указал на них человек с фонарем.
– Si, si, – ответили они, поскольку к этому моменту выучили «si, si». На что человек с фонарем разразился потоком вежливых поздравлений с прекрасным знанием итальянского, из которых они не поняли ни слова. Это был тот самый Доменико, недремлющий и преданный садовник Сан-Сальваторе, опора и поддержка всего дома, всемогущий, талантливый, красноречивый, любезнейший и умнейший Доменико. Но тогда они еще этого не знали, а он в темноте – да иногда и на свету – со своим смуглым угловатым лицом, с мягкими движениями пантеры, очень даже смахивал на злодея.
Дорожка снова выровнялась, пока они проходили вдоль возвышавшейся над ними справа какой-то темной массы, похожей на высокую стену, затем опять стала взбираться вверх, между источавшими дивные ароматы цветочными шпалерами, ронявшими на них капли, и свет фонаря скользнул по лилиям, и снова ступеньки, источенные временем, и еще одни чугунные ворота, и вот они уже внутри, хотя и все еще взбираются вверх по винтовой каменной лестнице, стиснутой стенами, похожими на башенные, а где-то выше виднеется купол крыши.
А в конце лестницы оказалась кованая дверь, сквозь которую сочится электрический свет.
– Ecco [6], – объявил Доменико, легко взлетев по нескольким последним ступеням и широко распахнув перед ними дверь.
И они действительно пришли – вот он, Сан-Сальваторе, и вот их чемоданы, и никто их не убил.
Они смотрели друг на друга, лица у них были бледные, в глазах светилось торжество.
Это был великий миг. Они здесь, в своем средневековом замке! А под ногами у них – его древние камни.
Миссис Уилкинс обвила рукой шею миссис Арбатнот и поцеловала ее.
– Первое, что должен увидеть этот дом, – сказала она тихо и торжественно, – это поцелуй.
– Дорогая Лотти, – сказала миссис Арбатнот.
– Дорогая Роуз, – ответила миссис Уилкинс, ее глаза сияли.
Доменико был в восторге. Ему нравилось смотреть на поцелуи прекрасных дам. Он произнес растроганную приветственную речь, а они стояли, взявшись за руки и поддерживая друг друга, потому что смертельно устали, смотрели на него с улыбками – и не понимали ни слова.
Глава 6
Проснувшись утром, миссис Уилкинс еще немного полежала, перед тем как встать и отдернуть шторы. Что увидит она из окна? Мир сияющий или мир дождливый? Он будет прекрасен – каким бы он ни был, этот мир, он будет прекрасным.
Она лежала в маленькой спальне с голыми белыми стенами и каменным полом, скупо обставленной старинной мебелью. Кованые кровати – их было две – покрыты черной эмалью и расписаны веселыми букетиками. Она лежала, оттягивая великий момент, когда подойдет к окну, подобно тому, как откладывают распечатывание драгоценного письма, взирая на него с вожделением. Она понятия не имела, который сейчас час – в последний раз она заводила часы, когда столетия назад ложилась спать еще в Хампстеде. Но, судя по тишине в доме, было еще рано, хотя ей казалось, будто она проспала очень долго – такой выспавшейся, в таком мире с собой она себя чувствовала. Она лежала, заложив руки за голову, и думала о том, какая она счастливая, на губах играла восторженная улыбка. Одна в постели, просто восхитительно. С первого дня замужества – а прошло уже пять лет – она не бывала в постели одна, без Меллерша, и как же прохладно, как просторно ей было, как свободно можно было двигаться, как прекрасно это чувство безрассудной смелости, и одеяло можно тянуть на себя, сколько хочется, и подушки пристроить, как удобно! Перед нею словно открылся мир новых радостей.
Миссис Уилкинс хотелось встать и открыть ставни, но ее «сейчас» было таким восхитительным! Она удовлетворенно вздохнула и продолжала лежать, оглядывая свою комнату, впитывая ее в себя, небольшую комнату, в которой она может все устроить по своему вкусу, ведь на этот блаженный месяц это ее собственная комната, купленная на ее собственные сбережения, результат ее бережливых отказов, и дверь в эту комнату она, если пожелает, может запирать, и никто без разрешения не войдет. Комната была такая необычная, непохожая на все, что она до сих пор видела, и такая приятная. Как монастырская келья. Кроме двух кроватей, все в ней было очень по-монашески. «Название комнаты было Мир» [7], – вспомнила она и улыбнулась.
Да, это было чудесно – вот так лежать и думать о том, как она счастлива, но там, за ставнями, наверняка было еще чудеснее. Она вскочила, надела комнатные туфельки, потому что каменный пол прикрывал лишь маленький коврик, подбежала к окну и рывком распахнула ставни.
– О! – воскликнула миссис Уилкинс.
Перед ней во всем своем блеске простирался итальянский апрель. Сверху на нее лилось солнце. В солнечных лучах дремало едва трепещущее море. На другой стороне бухты нежились на свету очаровательные разноцветные горы, а под ее окном, на краю усыпанного цветами травянистого склона, из которого вздымалась ввысь крепостная стена, рос гигантский кипарис. Он, словно огромная черная сабля, рассекал деликатнейшие голубые, лиловые и розовые мазки, которыми были выписаны море и горы.
Она глядела и глядела. Какая красота – и она видит ее! Какая красота – и она живая, она ее чувствует. Лицо ее омывал свет. Божественные ароматы проникали в окно и ласкали ее. Легкий ветерок нежно взъерошивал волосы. На дальнем конце бухты, на безмятежной поверхности моря, словно стая белых птиц, скопились рыбацкие лодки. Как красиво, как красиво! Увидеть это еще до того, как умерла и попала в рай… Смотреть, вдыхать, чувствовать… Счастье? Какое невыразительное, банальное, затертое слово. Но что можно сказать, как описать это? Ей казалось, что она словно отделяется от своего тела, она казалась себе слишком маленькой для такой огромной радости, этот свет будто омыл ее целиком. Как удивительно это чувство чистого блаженства, быть здесь, когда никто ничего от тебя не требует и не ждет, когда не надо делать ничего из того, чего не хочется. Все, кого она до сей поры знала, наверняка посчитали бы, что ей надлежит по крайней мере терзаться совестью. А она не чувствовала даже малюсенького угрызеньица. Что-то где-то было не так. Странно, что дома, где она была такой хорошей, такой чудовищно правильной, они ее терзали постоянно. Угрызения всех сортов: сердечные боли, обиды, разочарования, полный и неуклонный отказ от себялюбия. А сейчас, сбросив с себя всю благочестивость и оставив ее валяться, словно кучку промокшей под дождем одежды, она испытывала одну только радость. Лишившись своей хорошести, она наслаждалась наготой. Обнаженная и ликующая. А где-то там, в сыром тумане Хампстеда, оставался сердитый Меллерш.
Она попыталась представить себе Меллерша, как он сидит, завтракает и с горечью думает о ней, и – вот чудеса! – Меллерш вдруг засиял, стал розоватым, стал светло-лиловым, стал голубым, а потом бесформенным, а потом начал переливаться всеми цветами радуги. Наконец Меллерш, дрожа, и вовсе растворился в этом свете.
«Ну что ж», – подумала миссис Уилкинс, провожая его взглядом. Странно, что она не смогла вызвать образ Меллерша, ведь она наизусть знала каждую его черту, каждое выражение. Она просто уже не видела его таким, как он есть. Она только видела, как он растворился в красоте, слился в гармонии со всем окружающим. Совершенно естественно в ее голове возникли знакомые слова молитвы, и она возблагодарила Господа за то, что создал ее, за то, что хранит ее, за все благости этой жизни, но превыше всего за его бесконечную любовь – она в порыве признательности произносила эти слова вслух. А Меллерш в этот момент раздраженно натягивал ботинки, прежде чем выйти на мокрую улицу, и на самом деле думал о ней с горечью.
Она начала одеваться, выбрав чистое белое платье в честь летнего дня, распаковала чемоданы, привела в порядок свою очаровательную комнатку. Ее высокая тонкая фигура двигалась быстро и целенаправленно, она держалась прямо, лицо с мелкими чертами, такое хмурое дома от напряжения и страха, разгладилось. Все, чем она была, все, что она делала до этого утра, все, что она чувствовала и о чем беспокоилась, ушло. Ее заботы повели себя, как образ Меллерша – растворились в цвете и свету. И она стала замечать то, чего не замечала годами – причесываясь перед зеркалом, она подумала: «А у меня красивые волосы». Она ведь уже забыла, что у нее вообще есть волосы, она заплетала их в косу по вечерам и расплетала по утрам с такими же торопливостью и равнодушием, как шнуровала и расшнуровывала ботинки. А теперь она вдруг их заметила и, сидя перед зеркалом, накручивала на пальцы, и радовалась тому, что они у нее красивые. Меллерш тоже их не замечал, потому что ни разу еще не сказал ей о них ни слова. Что ж, вернувшись домой, она обратит его внимание на свои волосы. «Меллерш, – скажет она, – посмотри на мои волосы. Разве тебе не приятно, что у твоей жены волосы медового цвета и вьются?»
Она засмеялась. Она еще никогда не говорила Меллершу ничего подобного, и сама мысль об этом ее позабавила. Но почему не говорила? О да, потому что она привыкла его бояться. Смешно бояться кого бы то ни было, в особенности собственного мужа, которого она видела в самые приземленные моменты, например, спящим – а во сне он храпел.