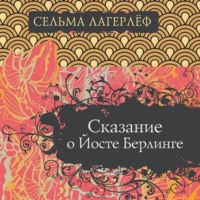Полная версия
Проклятие рода Лёвеншёльдов
Марит сидела неподвижно и удивлялась: что со мной? А удивляться нечему: так и бывает, когда кого-то любишь.
Она увидела перед собой могучего красавца Пауля Элиассона как живого. Вспомнила его голос, его веселый искрящийся взгляд, каждый его жест, по-юношески неуклюжий и от того еще более изящный… Она любила своего суженого, любила тогда, любит и сейчас. Но она не понимала, что любовь эта с годами нисколько не остыла. Любовь горела в ее душе с той же томительной силой, что и почти сорок лет назад. Как это могло произойти?
Но не только любовь. Еще и память о страшной, нестерпимой и никогда не утихающей боли, когда девушка навсегда теряет любимого.
И Марит с удивлением обнаружила, что в душе ее не осталось места ни для ненависти, ни для мести. Все заполнила старая, но, как оказалось, бессмертная любовь. Любовь и сострадание.
Она посмотрела на Мальвину Спаак – та продолжала рыдать так же горько и безутешно. Теперь она ее понимала. Она-то думала, холодные, одинокие годы навсегда остудили ее сердце – оказывается, нет. Нельзя забыть, как жжется огонь. И ей вовсе не хотелось, чтобы из-за нее невинная душа выстрадала все, что выстрадала она.
Любовь выше мести.
Она поднялась с крыльца и подошла к фрекен Спаак.
– Я пойду с тобой, – коротко сказала она.
Думаю, вы уже поняли: Мальвина Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эриксдоттер.
За всю дорогу Марит не сказала ни слова. Фрекен Спаак только намного позже поняла почему: продумывала ритуал поиска злополучного перстня.
Она проводила Марит Эриксдоттер в спальню родителей Адриана. Там все было так же. Прекрасное лицо Адриана заливала смертельная бледность, он лежал совершенно неподвижно, и так же неподвижно сидела у его постели баронесса, не сводя глаз с умирающего сына.
И только когда появилась Марит, баронесса подняла голову. Сначала могло показаться, что она не узнала эту женщину с лицом монахини в простой крестьянской одежде. Но нет, узнала, потому что сползла со стула и уткнула лицо в ее домотканую юбку.
– О, Марит, Марит… умоляю тебя, не думай про все зло, которое причинили тебе Лёвеншёльды! Умоляю, помоги ему! Помоги ему, Марит!
Это было удивительное зрелище: пожилая женщина в простой крестьянской одежде отступила на шаг от стоящей перед ней на коленях баронессы, а та поползла за ней.
– Ты не знаешь, Марит, что я пережила… когда генерал начал здесь появляться, я знала… знала и ждала, что гнев его в конце концов обратится против нашей семьи.
Марит не шевельнулась, казалось, она погружена в собственные мысли и не замечает ничего вокруг. Спокойное, сосредоточенное лицо, но фрекен Спаак понимала… нет, даже не понимала, а чувствовала, как приятно ей слышать слова баронессы о страданиях, как она наслаждается ее унижением.
– Сколько раз я собиралась прийти к тебе, Марит! Тысячу раз. Прийти, встать перед тобой на колени… вот так, как сейчас… встать на колени и умолять тебя простить Лёвеншёльдов. Сколько раз! Я ставила себя на твое место и понимала: такое простить невозможно.
– Госпоже баронессе и не надо меня умолять. Госпожа баронесса права: простить я не могу.
– Но ты же пришла!
– Я пришла ради этой девушки. Она попросила меня прийти, и я пришла.
Марит перешла на другую сторону постели. Положила руку на грудь больного и пробормотала несколько слов. Наморщила лоб, закатила глаза и плотно сжала губы.
Типичная деревенская знахарка, подумала Мальвина Спаак.
– Он будет жить, – сказала Марит. – Но помните, госпожа баронесса, я помогаю ему только ради этой девушки.
– Да, Марит, да! Я никогда этого не забуду…
Мальвине Спаак почудилось, что баронесса хочет сказать что-то еще, но та промолчала. Только прикусила губу.
– А теперь прошу госпожу баронессу предоставить мне…
– Распоряжайся всем и всеми, как хочешь. Барон уехал, я попросила его встретить доктора.
Мальвина Спаак была уверена, что Марит сейчас же попытается вернуть больного к жизни, но ничего подобного не произошло.
Марит Эриксдоттер приказала собрать всю одежду барона Адриана. И новую, и поношенную, и ту, что давно не носится. Все до последней тряпки. Все, что касалось его тела. Носки, сорочки, варежки, шапочки – все.
Почти весь вечер ушел на поиски. Никто ничего не делал, только искали, искали и искали. Фрекен Спаак была разочарована – она ждала чудес, а Марит Эриксдоттер оказалась всего-навсего обычной деревенской знахаркой, со всеми их ужимками, призванными создать ореол таинственности. Но что делать? Она тоже приняла участи в поисках. Тоже рылась в шкафах и сундуках, перевернула спальню Адриана. Ей помогали сестры Адриана – они лучше знали, что и когда он надевал и в этом году, и раньше.
Они спустились вниз с увязанным в огромный узел ворохом одежды.
Марит разложила все на кухонном столе и внимательно рассматривала каждую тряпку. Отложила в сторону башмаки, детские варежки и сорочку.
– Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы… – бормотала она неразборчиво. Вдруг остановилась и посмотрела на собравшихся. – Мне нужно что-то для головы, – сказала она.
Фрекен Спаак показала ей на сваленные в кучу шляпы и кашетки[12].
– Нет-нет, не то. Нужно что-то теплое и мягкое. Неужели у барона Адриана не было шерстяной шапочки, как у всех детей?
Мальвина Спаак уже приготовилась сказать, что ничего подобного ей не попадалось, но ее опередила та самая бойкая кухонная девка:
– Если что, так я на днях нашла. Одно название – шапочка. Совсем старая, я уж ее хотела на прихватки пустить, да вот фрекен у меня забрала зачем-то.
И Мальвине Спаак пришлось выложить шерстяную шапочку, а она-то собиралась хранить ее до конца дней как дорогую память о любимом человеке.
Марит схватила шапочку и опять начала бормотать свои заклинания, но теперь они звучали совсем по-другому. Она чуть ли не мурлыкала по-кошачьи.
– А теперь… – Марит Эриксдоттер выпрямилась и строго обвела взглядом присутствующих. – А теперь все это отнесите и положите в могилу генерала.
Фрекен Спаак, услышав это, остолбенела:
– Неужели госпожа Марит думает, что барон позволит открыть могилу и положить туда это старое барахло?
Марит посмотрела на нее, и на губах ее промелькнуло что-то вроде улыбки. Она взяла фрекен Спаак за руку, подвела к окну и встала спиной к собравшейся в кухне челяди. Поднесла шапочку к глазам домоправительницы и молча раздвинула пальцами нитки большого помпона.
Все заметили: когда фрекен Спаак повернулась к собравшимся, на лице ее разлилась смертельная бледность, а руки заметно дрожали.
Марит собрала отобранные вещи в узелок и отдала Мальвине Спаак.
– Я свое сделала, – сказала она. – Теперь ваша очередь. Позаботьтесь, чтобы все это оказалось в могиле как можно быстрее.
И ушла.
* * *Домоправительница и экономка фрекен Мальвина Спаак пошла на кладбище в одиннадцатом часу вечера. Взяла с собой собранный Марит узелок, но при этом не имела ни малейшего представления, как ей удастся опустить его в семейный склеп Лёвеншёльдов. Полчаса назад приехал барон и привез доктора. Фрекен Спаак от всей души надеялась, что опытный карлстадский доктор сумеет привести Адриана в сознание и ей не придется выполнять мрачное поручение. Но тот почти сразу объявил: медицина бессильна. Больному осталось жить несколько часов.
И тогда фрекен Спаак сунула узелок под мышку и двинулась в путь. Она прекрасно понимала, что барон никогда не пошлет людей поднимать тяжеленную могильную плиту и вскрывать могилу только для того, чтобы положить в нее старую одежду Адриана. Он, может статься, и согласился бы, если бы она сказала про содержимое узелка, но сделать это она не имела права. Это означало бы предать Марит Эриксдоттер, поскольку у Мальвины Спаак не было ни малейшего сомнения: именно Марит изобрела способ пронести роковой перстень в Хедебю. Она, конечно, вспомнила: барон Адриан рассказывал ей, как в детстве подрался с племянником Марит и та взялась зашить его шапочку. Мальвина Спаак даже думать не хотела, какой тарарам начнется, если она расскажет барону всю правду.
Потом, вспоминая этот вечер, она удивлялась: никакого страха не было. Одна, пусть белой, но все же ночью на кладбище… но нет. Страха не было. Мозг сверлила только одна мысль: как опустить узелок в могилу?
Она перелезла низкую ограду и подошла к склепу.
Села на могильную плиту и молитвенно сложила руки.
– Господи, если Ты мне не поможешь, склеп все равно откроется… но не для перстня, а для человека, которого я буду оплакивать всю жизнь…
Краем глаза она заметила в траве рядом с могильной плитой какое-то движение. На короткий миг появилась маленькая головка и тут же скрылась. Фрекен Спаак с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Крыса, несомненно, испугалась, но она-то боялась крыс ничуть не меньше, чем они ее.
И тут ей пришла в голову странная мысль. Она подошла к большому кусту сирени, отломила длинную сухую ветку и очистила от сучьев. Отыскала в траве крысиную норку и сунула туда длинную, гибкую, похожую на удилище хворостину.
Хворостина уперлась во что-то твердое. Тогда она попробовала воткнуть ее под углом, и со второго или третьего раза ей удалось провести свой прут довольно далеко и, как ей показалось, в направлении к склепу. Она даже удивилась, насколько далеко. В руках у нее остался самый кончик, три-четыре дюйма, не больше.
Мальвина Спаак вытащила свое орудие. Три, а то и четыре локтя, не меньше. Задумчиво поглядела на надгробье – наверняка ее хворостина побывала в могиле.
Никогда в жизни – ни до, ни после – голова не работала так ясно. Значит, крысы проделали ход в склеп. Что там произошло? Трещина? Вполне возможно. Или выпал кусок известки из кладки.
Она легла на землю, вырвала несколько пучков травы, разгребла землю и, подавив приступ страха, сунула в нору руку. Рука ушла по локоть, но до склепа не достала.
Руки недостаточно.
Она трясущимися от волнения руками развязала узелок, достала шапочку с перстнем, надела на хворостину и сунула в нору. Медленно и очень осторожно продвигала ветку дальше и дальше, моля Бога, чтобы не сломалась. И когда весь хлыст почти ушел в нору, ахнула: ей показалось, кто-то вырвал его, как крупная рыба вырывает удочку из рук неопытного рыбака.
Хлыст исчез.
А может быть, она держала его недостаточно крепко, и он просто-напросто провалился в нору под собственной тяжестью?
Нет, она была уверена. Хлыст кто-то вырвал.
И ни секунды не сомневалась кто.
Только теперь ее затрясло от страха. Она лихорадочно затолкала в дыру оставшиеся вещи, кое-как засыпала дерном и пошла в усадьбу. Нет, не пошла – побежала. Побежала стремглав, мало что соображая от ужаса, и до самой усадьбы ни разу не остановилась передохнуть.
На крыльце стояли барон и баронесса. Баронесса всплеснула руками:
– Где вы были, моя девочка? Мы стоим и ждем вас…
– Барон Адриан умер?
– Нет, что вы! Адриан не умер… – Барон пристально посмотрел на нее. – Но сначала скажите, где вы пропадали?
Фрекен Спаак настолько задохнулась от бега, что почти не могла говорить. Но все же рассказала кое-как о странном совете Марит Эриксдоттер. И она до сих пор не знает, выполнила она его или нет. По крайней мере, удалось затолкать что-то из старья в крысиную нору.
– Очень и очень странно… – задумчиво произнес барон. – Адриану намного лучше. Он очнулся несколько минут назад, и знаете, каковы были его первые слова? Он открыл глаза и произнес: «Генерал получил свой перстень».
– Пульс хороший, сердце бьется, как всегда… порозовел, – добавила баронесса, с особенным удовольствием выговорив последнее слово. – Он требует, чтобы вы к нему зашли. Хочет немедленно с вами поговорить. Утверждает, что вы его спасли. Поэтому мы стоим здесь и недоумеваем, куда вы подевались.
И фрекен Мальвина Спаак осторожно вошла в спальню. Адриан уже сидел на постели. Увидев ее, широко раскинул руки.
– Я знаю, знаю! – воскликнул он и обнял ее. – Генерал получил свой перстень, и это ваша заслуга, фрекен Спаак!
Он обнимал ее и целовал в лоб, а фрекен Спаак плакала и смеялась.
– Вы спасли мою жизнь, фрекен Мальвина Спаак. Если бы не вы, я был бы уже остывающим трупом. За такой подвиг никакой благодарности не хватит.
Этот восторг, с каким встретил ее юноша, эта искренняя благодарность, очевидно, притупили осторожность Мальвины Спаак, и она не заметила, что лежит в его объятиях довольно долго.
– И не только я, фрекен Спаак, – поспешил добавить Адриан. – Не только я благодарен вам на всю оставшуюся жизнь. Есть и другой человек.
Он снял с шеи медальон, открыл его, и она увидела миниатюрный портрет юной девушки.
– Вы первая, кто знает… кроме родителей. Через несколько недель она приедет в Хедебю и поблагодарит вас сама… думаю, еще горячее и сердечнее, чем удалось это сделать мне.
И что же сделала фрекен Мальвина Спаак? Фрекен Мальвина Спаак сделала книксен и поблагодарила юного барона за доверие. Она хотела было сказать, что вовсе не собирается оставаться в Хедебю и дожидаться его невесты, но передумала.
Ты бедна. У тебя никого нет, кто бы мог тебя поддержать, сказала она себе. Глупо отказываться от такого хорошего места.
Книга вторая
ШАРЛОТТА ЛЁВЕНШЁЛЬД
Полковница
IЖила когда-то в Карлстаде полковница. Звали эту полковницу Беата Экенстедт.
Она происходила из рода Лёвеншёльдов, была красива, приятна в обращении и к тому же прекрасно образована. Даже пробовала себя в поэзии, и стихи ее считались ничуть не менее забавными и изящными, чем, скажем, стихи госпожи Леннгрен.
Небольшого роста, но с великолепной осанкой, как, собственно, и большинство Лёвеншёльдов. Красивое, одухотворенное лицо, умение сказать что-то доброе и приятное любому, кого бы она ни повстречала. Что-то романтическое было в ее облике… одним словом, мила на удивление. Забыть невозможно.
И одевалась до крайности элегантно, и причесана безукоризненно. В любом обществе, где бы она ни появилась, можно было не спрашивать: а у кого самая красивая камея? самый изысканный браслет? самые сверкающие кольца? Ясно и так: конечно же у полковницы Беаты Экенстедт. А у кого самые маленькие ножки? У нее же, у полковницы. И туфельки с золотым шитьем на высоких каблуках, неважно, в моде ли они в Париже или Стокгольме. В Вермланде то, что носит полковница, то и модно.
Жила полковница в очень красивом доме. Наверное, самом красивом в Карлстаде. Не на одной из узких, тесных улочек, искромсавших городской центр, а на самом берегу реки Кларэльвен. Из окна своего будуара она могла любоваться то на хмурую, то на сверкающую вуалью солнечных искр реку. А однажды ночью, когда над рекой стояла огромная, как медный таз, луна, к ней под балкон явился водяной – так она рассказывала. Подумайте только – водяной!
Он пел и аккомпанировал себе на золотой арфе. И никто не сомневался в ее рассказе, никто не крутил пальцем у виска – если уж все мужчины Карлстада готовы пасть к ее ногам, почему бы и водяному не спеть серенаду для обворожительной полковницы?
Столичные жители, заброшенные в Карлстад делами или родственными обязательствами, считали своим долгом нанести ей визит. Если вы сомневаетесь, то сомневаетесь напрасно: она очаровывала их незамедлительно, и они пожимали плечами: как может такая женщина, подлинный бриллиант в короне… как она может похоронить себя в маленьком провинциальном городке? Говорят, сам епископ Тегнер посвятил ей стихотворение, а кронпринц сказал вот что:
– Подлинное, несомненное французское очарование.
И даже произнес последние слова, грассируя на французский манер: «Фх’анцузское очах’ование». Хотел, видно, подчеркнуть: не просто очарование, а именно французское.
Сам генерал Эссен, да и не только генерал, многие из тех, кто помнил галантные времена Густава Третьего, люди, поверьте, много чего повидавшие, вынуждены были подтвердить: таких ужинов, какие задавала полковница, они в жизни не видели. Стол, сервировка, изящная застольная беседа – выше всяких похвал.
У полковницы были две дочери, Эва и Жакетт. Прелестные, приветливые девушки, ими восхищались бы в любом городе. Но не в Карлстаде. Девушки жили в тени материнской славы. Даже на балах молодые люди состязались за честь потанцевать с полковницей, а бедные Эва и Жакетт подпирали стены. Мы уже упоминали водяного; добавим – не он один, не только водяной. Многие пели серенады под окнами полковницы. Но никогда и никто не видел, чтобы кто-то стоял с гитарой или арфой под окнами дочерей. Только под окном полковницы. Юные поэты сочиняли оды и посвящали их Б. Э., но ни одной строфы, да что там – ни одной строки не посвятили они ни Э. Э., ни Ж. Э.
Любители позубоскалить на чужой счет утверждали: все же был случай, когда некий подпоручик надумал посвататься к Эве Экенстедт. Он и посватался, но полковница ему отказала: сочла, что у юноши скверный вкус.
Полковница не была бы полковницей, если бы у нее не было полковника. Полковник был. Достойный, мало того, достойнейший человек, заслуживающий самых лестных слов. Его приняли бы с распростертыми объятиями в любом обществе. В любом, но не в Карлстаде. Потому что в Карлстаде его все время сравнивали с женой – легкой и изящной, как бабочка, блистательной, находчивой и остроумной, приветливой и веселой до игривости. И грустно признавать, но приходится: на фоне жены он выглядел в глазах земляков как неотесанный провинциальный мужлан. Гости даже не особо прислушивались к его высказываниям. Правильнее сказать – они его просто не замечали.
Было бы несправедливо и глупо предположить, чтобы полковница допускала хотя бы малейшую близость с кем-то из вьющихся вокруг нее кавалеров. Или хотя бы неуместную игривость. Нет, об этом и речи не шло. Она держалась безупречно. Никто в городе не мог похвастаться особо доверительными отношениями с блистательной полковницей. С другой стороны, она не предпринимала никаких усилий, чтобы помочь мужу занять достойное место в обществе, вывести его из тени. Видимо, считала, что там ему и место – в тени.
И, наверное, настало время поведать, что кроме мужа и двух дочерей у очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы был еще и сын. А сына она не просто любила. Она его обожала, восхищалась, пользовалась каждой возможностью показать, какой у нее замечательный сын. И любой, кто хотел продолжать получать приглашения на легендарные вечера у полковницы, обязан был восхищаться этим во всех отношениях исключительным юношей.
Но не торопитесь осуждать полковницу – никто не станет отрицать, что у нее были все основания гордиться своим отпрыском. Она, возможно, баловала его, но он был и в самом деле очень одаренный и при этом приветливый и скромный мальчик. Не капризный, не дерзкий, не назойливый, как другие избалованные дети. Не прогуливал уроки, не устраивал каверз учителям. И, как ни странно, был куда более романтичен, чем сестры. Ему не было еще и восьми, как он начал писать стихи. Мог прийти к матери и возбужденно рассказывать: мамочка, я видел эльфов, они танцевали на лугу в Вокснессе, а водяной играл для них на арфе. Полковница не удивлялась – чему удивляться, когда она и сама видела этого водяного у себя под балконом?
Красивое, вдохновенное лицо, темные, мечтательные глаза… замечательный, превосходный молодой человек, во всех отношениях достойный своей выдающейся матери.
Она так любила этого юношу, что для всех остальных просто не оставалось места в ее сердце. Но при этом вовсе не была безумной, слабовольной мамашей, прощающей любимому сыну все грехи. Ничего подобного. Карл-Артур Экенстедт получил хорошее, основательное воспитание. А главное, научился работать. Да, она ставила его выше других созданных Богом существ, это правда. Но именно поэтому он должен был приносить из гимназии самые высокие оценки. И многие с одобрением отмечали: пока Карл-Артур учился, полковница никогда не приглашала на свои приемы учителей. Никогда! Ни один человек не решится даже намекнуть, что Карл-Артур так хорошо успевал в школе только потому, что он сын полковницы Экенстедт.
Нет, что ни говори, у полковницы был стиль.
В гимназическом аттестате у Карла-Артура стояло laudatur – высшая оценка по всем предметам. Большая редкость, между прочим. До него такой чести удостаивался только Эрик Густав Гейер[13]. И поступить в Упсальский университет для юноши было делом вовсе не трудным, как и для Гейера, – с такими-то баллами! Полковница много раз встречалась с маленьким и толстым профессором Гейером. Она даже как-то удостоилась чести быть его собеседницей за столом на парадном обеде у наместника. Впрочем, жители Карлстада пожимают плечами: еще неизвестно, кто из них удостоился чести – она или он. Профессор Гейер был необычайно одаренным и интересным человеком, но полковница никак не могла отделаться от мысли, что у ее сына не менее светлая голова, чем у профессора Гейера. И ее сын, Карл-Артур, тоже станет известнейшим профессором, на его лекции тоже будут стремиться и кронпринц Оскар, и наместник короля Йерта, и полковница Сильверстольпе. Одним словом, все упсальские знаменитости.
Итак, Карл-Артур в конце лета 1826 года уехал в Упсалу. И представьте, весь семестр раз в неделю отправлял домой письма. И не только первый семестр – за все годы учения в Упсальском университете он ни разу не нарушил данного матери обещания. И ни одно письмо, ни одна записка не были уничтожены! Полковница читала их и перечитывала, а за воскресными обедами, когда собиралась родня, знакомила собравшихся с последним письмом от любимого сына. И правильно делала – это были письма, которыми могла бы гордиться любая мать.
Полковница не без оснований подозревала, что родственники только и ждут, что Карл-Артур на поверку окажется не таким уж примерным сыном. Поэтому с особым наслаждением зачитывала, как он умно и рассудительно тратит деньги: снимает дешевую меблированную комнату, покупает на базаре масло и сыр, чтобы не тратиться на рестораны, встает в шесть утра, работает двенадцать часов в день. А этот почтительный тон, полный восхищения и преклонения перед матерью! Она зачитывала эти письма и настоятелю собора Шёборгу, чья жена была урожденной Экенстедта, и двоюродному брату мужа советнику Экенстедту, и своим двум кузенам Стаке, которые жили в большом угловом доме. Зачитывала со вкусом, не торопясь. Подумать только: Карл-Артур только теперь, оказавшись в большом мире, осознал, что его мать могла бы стать выдающейся поэтессой, если бы не посвятила свою жизнь мужу и детям! И написал об этом матери. Даже у нее, привыкшей ко всякого рода похвалам и комплиментам, глаза были на мокром месте.
Но настоящим триумфом стало полученное перед Рождеством письмо, в котором Карл-Артур сообщил, что не израсходовал все полученные от отца перед поездкой в Упсалу деньги. Он сэкономил примерно половину и привезет оставшиеся деньги с собой. У настоятеля и советника открылись рты от удивления, а один из кузенов Стаке, тот, что повыше ростом, заявил вот что: готов держать пари, что никогда ничего подобного в этой части света не случалось и вряд ли случится впредь. И все сошлись на одном: Карл-Артур – настоящее чудо.
Конечно, полковница тосковала по сыну. Он появлялся дома только на каникулах, и письма его служили истинным утешением. Она получала от них такую радость и такое удовлетворение, что иногда ей приходила в голову мысль: лучше и быть не может. Карл-Артур побывал, к примеру, на лекции знаменитого поэта-романтика Аттенбума и разразился целым эссе о поэзии и философии. Эссе такой силы и глубины, что полковница уже ни на секунду не сомневалась, что ее сыну суждено стать знаменитым человеком. И, может быть, даже превзойти в известности самого профессора Гейера. Его имя наверняка будут произносить в том же ряду, что и имя великого Карла фон Линнея. Полковница не видела причин, отчего бы ее сыну не стать мировой научной знаменитостью. Или знаменитым скальдом, как тот же Тегнер. Она наслаждалась этими мыслями, как гурман наслаждается королевскими деликатесами.
Рождественские и летние каникулы Карл-Артур проводил дома в Карлстаде, и каждый раз, когда он приезжал, полковнице казалось, что сын сделался еще красивее. Мало того, становится настоящим мужчиной. Внешне – да, но в душе он оставался тем же любящим и преданным сыном. Почтителен с отцом, нежен с матерью, весел и шутлив с сестрами.
Иногда полковницу охватывало нетерпение. Что ж такое, год за годом сын грызет гранит науки в Упсале, а ничего не происходит. То есть, может, и происходит, но имя его пока еще не прогремело по всей стране. Ей, конечно, разъясняли: Карл-Артур собирается сдавать так называемый большой кандидатский экзамен, а это требует времени. Только представьте, полковница, говорили ей знающие люди, только представьте! Надо сдать экзамены по всем предметам! По всем до единого! Астрономия, древнееврейский, геометрия… только представьте!