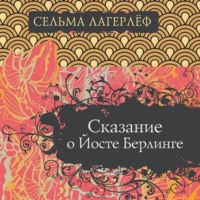Полная версия
Проклятие рода Лёвеншёльдов
Мудрое и справедливое решение. Ни у кого, даже у заядлых скептиков, приговор не вызвал и тени протеста. Какой благородный жест старого короля! Он не стал оспаривать решение суда. Он дал понять, что не считает себя выше правосудия в таком сложном и запутанном деле. Король, как полагалось бы и каждому из нас в трудные моменты жизни, обратился к Всеведущему и Всемогущему. Теперь-то можно быть уверенным, что истина выплывет наружу.
Прошу вас не упускать из виду, насколько необычным было это судебное дело. Ответчики – что ж, ответчики и есть ответчики, но истцом-то выступал покойник! Покойник, потребовавший вернуть ему его законное имущество. Конечно, решать судьбу и жизнь людей игральными костями по меньшей мере странно. Никто такого и припомнить не мог. В обычном случае – да. Более чем странно. Но здесь же не обычная тяжба! Уж покойный-то генерал наверняка знает, кто из троих украл его перстень. В том-то и заключалась мудрость королевского вердикта, что он как бы предоставлял право казнить и миловать не мирскому суду, а покойному генералу.
А может, и не «как бы». Может, король Адольф Фредрик и в самом деле решил положиться на генерала Лёвеншёльда. Он же знал его при жизни, знал про его военные подвиги. И посчитал, что генералу вполне можно доверить такое щекотливое дело. Может, и так. Мы не знаем и никогда не узнаем – столько лет прошло!
Надо ли удивляться, что в решающий день чуть ли не весь уезд был на месте. Все, кто не был слишком стар, чтобы дойти до Брубю, и не слишком мал, чтобы доползти, собрались у здания суда. В уезде много лет не случалось ничего настолько примечательного. Конечно, можно остаться дома и дожидаться новостей, но одно дело – услышать, а совсем другое – увидеть самому.
Дома и усадьбы в этих местах встречаются редко, можно пройти милю, а то и две и не увидеть ни одной живой души. Но теперь, когда все столпились на площади, люди с удивлением поглядывали друг на друга – вот как нас много, оказывается. Стоим плечом к плечу.
Все даже не вместились на небольшой площади, кое-кто толокся на примыкающих улочках. Будто пчелиный рой собрался у летка в погожий летний день. Не молчаливые и сдержанные, как в церкви, не радостно возбужденные, как на ярмарке, нет – люди гудели и жужжали, как рассерженные пчелы, и в этом грозном гуле не было ни сочувствия, ни даже жалости. Только ненависть и желание мести.
Я очень прошу: не надо сгоряча обвинять людей в кровожадности. Тут нечему удивляться. Страх перед разбойниками всосан с молоком матери. В то время даже в колыбельных песнях то и дело появлялись таинственные злодеи и бродяги. Они таились вокруг и только и дожидались, когда подвернется случай похитить очередного не желающего засыпать младенца. Воры и убийцы не считались за людей. Даже в мыслях не возникало, что такие выродки заслуживают милосердия.
И вот сегодня одного из таких негодяев приговорят к смерти, и люди искренне радовались и с нетерпением ждали приговора.
«И слава Богу, – рассуждали они, даже не зная, на кого падет роковой выбор. – Теперь, по крайней мере, можно не бояться этого дьявольского отродья. Теперь он нам не навредит».
Божий суд по случаю такого скопления людей решили провести не в здании, как обычно, а прямо на площади. Решение правильное, но понравилось не всем. К неудовольствию толпы, крыльцо окружила рота солдат. Они встали в каре и подняли пики – похоже на частокол, каким огораживают загоны для скота. Послышались ругательства. Дело необычное; как правило, никто даже и подумать не мог, чтобы позволить себе такую дерзость – сквернословить. Суд все-таки. Но толпа уже не могла унять охватившее ее кровожадное возбуждение.
Не надо забывать – многие пришли заранее, хотели занять место поближе. Они стояли уже много часов. Ни присесть, ни заняться чем-то – каждая минута ожидания добавляла толпе озлобления.
Наконец служитель вынес большой барабан и поставил его в центре ограждения. Одобрительный гул – значит, все же собираются завершить дело до вечера. Служитель вернулся в дом, притащил стол, опять скрылся и на этот раз принес в одной руке стул, а в другой – чернильницу и перо для писца. И опять исчез. А в третий раз явился налегке, с маленьким глиняным стаканчиком, в котором зловеще клацали игральные кости. Пару раз швырнул их на барабан – видно, хотел удостовериться, что кости правильные и падают в случайном, а не кем-то предусмотренном порядке.
И опять скрылся. Ничего удивительного: пока он бегал туда-сюда, из толпы выкрикивали оскорбления, разве что не плевались. И плевались бы, если бы не частокол солдатских пик.
Что происходит с людьми? Никогда, ни при каких условиях эти достойные, трудолюбивые крестьяне и работники ничего подобного себе бы не позволили. Но толпа – это не люди. Искать разум в толпе – дело глупое и бессмысленное. В толпе умирают все чувства, кроме жажды крови и разорения.
Солдаты расступились и пропустили судью и присяжных. Кто-то из них шел пешком, кто-то на всякий случай ехал на лошади – мало ли что придет в голову обозленным долгим ожиданием людям.
Собравшиеся оживились. Послышались выкрики, громкие приветствия перемешались с не менее громкими упреками. И призвать людей к порядку никто не решался. Опытные чиновники знали – толпа всегда беременна бунтом. Так было вчера и, боюсь, так будет и завтра. Запальным шнуром для взрыва может послужить все что угодно: неловко оброненное слово, жест, неправильно истолкованная гримаса.
Приехали и господа, их тоже пропустили в здание. Ротмистр Лёвеншёльд, прост из Бру, заводчик из Экебю, капитан гвардии из Хельесеттера. Всем им пришлось выслушать упреки и насмешки – им-то не пришлось толкаться здесь часами! Господа небось только что проснулись, да еще и освежились перегонным.
Никто не отвечал. Все знали: неудачно оброненное слово может привести к беде. Молча проследовали в дом.
И только тогда все обратили внимание на молоденькую девушку, стоявшую у самого оцепления. Маленькая, хрупкая – с чего бы ей досталось такое почетное место? Ее попытались оттеснить, но кто-то крикнул – не трогайте, это же дочка Эрика Иварссона из Ольсбю.
И ее оставили в покое. Но ненадолго: начали ехидно спрашивать, кого бы ей больше хотелось увидеть на виселице – отца или жениха? И как у нее вообще хватило наглости сюда явиться? И, собственно, какого рожна дочь или невеста вора должна стоять на лучшем месте?
Тут кто-то поведал, что девчушка не из пугливых: она не пропустила ни одного заседания суда. Кивала и улыбалась обвинителям, будто была уверена, что ее родных завтра же, ну, самое позднее – послезавтра выпустят на свободу. И обвиняемые, глядя на нее, тоже обретали мужество – хоть одна живая душа уверена в их невиновности. Все же есть на свете человек, который даже мысли не может допустить, чтобы какое-то несчастное кольцо, пусть и сто раз золотое, толкнуло их на такое ужасное преступление.
Она часами высиживала в суде, красивая, терпеливая, спокойная. Ни разу никого не обидела, не поставила в глупое положение. Ни разу не заплакала, ни разу не вышла из себя. Можно сказать, подружилась со всеми – и с судьей, и с исправником, и с присяжными. Никто бы из них не признался, но поговаривали, что уездный суд никогда, ни при каких условиях не оправдал бы обвиняемых, если бы не она. Невозможно даже представить, чтобы Марит Эриксдоттер могла так любить убийцу и грабителя.
Она пришла и на этот странный суд. Пришла, чтобы осужденные могли ее видеть. Пришла, чтобы служить им опорой и поддержкой. Она будет молиться за них, покуда идет необычная жеребьевка. Молиться и просить о Господней милости.
И кто знает? Яблоко от яблони недалеко падает, это так, но выглядит-то она вовсе не как дочь убийцы. И сердечко у нее любящее. Что да, то да.
Так что пусть стоит, где стоит.
Девушка, разумеется, слышала выкрики в толпе, но бровью не повела. Не плакала, не отвечала, не пыталась убежать. Она знала твердо – ее присутствие послужит несчастным утешением. В озлобленной, возбужденной предвкушением казни толпе никто, кроме нее, не посочувствует осужденным.
И надо признать, стояла она не напрасно. У многих тоже были дочери, такие же кроткие и невинные, как эта девушка, и люди понемногу начали соображать: они ни за что не хотели бы видеть своих дочерей на месте этой Марит. Начали раздаваться голоса в ее защиту, кое-кто даже пытался урезонить самых назойливых крикунов и остряков.
И когда после бесконечного ожидания двери суда распахнулись, многие, надо отдать им должное, почувствовали облегчение не только за себя, но и за Марит. Не будем строго судить: кое у кого на дне бурлящего озера ненависти, злого любопытства и жажды крови все-таки били робкие родники человечности и сострадания.
Медленно и торжественно на крыльцо вышли служитель, исправник и подсудимые. Наручники с них сняли, но у каждого по бокам шли двое солдат. За ними выступали пономарь, прост, присяжные, писец и судья. Последними явились важные господа и несколько зажиточных, уважаемых хуторян, удостоившихся чести пройти за ограждение; повернись дело по-иному, среди них были бы и братья Иварссоны. Исправник и подсудимые с конвоем прошли налево, судья и присяжные заседатели – направо. Господа остались у дверей. Писец со своими свитками сел за стол и начал чинить перо.
Роковой барабан стоял посередине, ничто не мешало его видеть.
Как только процессия появилась, в толпе началось движение. Парни поздоровее проталкивались поближе, отталкивая женщин и стариков. Они попробовали было оттеснить и Марит Эриксдоттер, но она, маленькая и тоненькая, встала на четвереньки, проскользнула между ног солдат оцепления и оказалась на огороженной площадке, по ту сторону палисада из поднятых солдатских пик.
Это было нарушением порядка, и исправник раздраженно кивнул служителю – убрать. Но тот довел ее до столпившихся у дверей зрителей и отпустил – он-то видел Марит на всех судебных заседаниях и знал, что никакого беспорядка от нее ждать не приходится. Лишь бы ей разрешили стоять поближе к своим родным. А если исправнику вздумается отчитать ее за выходку, вот она, никуда не денется, так и будет здесь стоять. Не убежит.
Но уже никто и не обращал внимания на Марит. Прост и пономарь вышли на середину оцепленной площадки. Оба, как по команде, сняли шляпы. Пономарь вытащил книгу псалмов и начал петь. И, только услышав пение, те, кто стоял за оцеплением, начали понемногу соображать, что происходит что-то очень важное и торжественное, что они никогда в жизни такого не слышали и не видели: люди обращались к Всеведущему и Всемогущему в надежде услышать Его волю.
А когда заговорил прост, настала мертвая тишина. Священник обращался к Иисусу, Сыну Божьему, к Тому, кто и Сам когда-то стоял перед Пилатовым судом. Он просил милости – но не для подсудимых, а для судей, чтобы они, не дай Бог, не приговорили к смерти невинного. И, конечно, Иисус сжалится и над собравшимися, не позволит им, как евреям в Иерусалиме, оказаться невольными свидетелями неправедного суда.
Вслед за простом и все обнажили головы. Настроение изменилось, никто уже не думал о земном. Прост воззвал к Богу, и людям казалось, что зов его услышан и Бог уже где-то здесь, среди них. Они ощущали Его присутствие.
И как не ощутить? Чудесный осенний день, такие выпадают очень редко. По голубому небу плывут легкие кружевные облака, а деревья еще не сбросили свой золотой наряд. Один за другим над головами пролетают караваны улетающих в южные края птиц. Их так много, что кое-кто решил: наверняка знак Божий. Господь одобряет этот необычный суд.
Священник закончил молитву. Рядом с ним встал предводитель уездного дворянства и по бумаге зачитал королевский вердикт – такой длинный и запутанный, что многие не успевали следить за смыслом. И все же главное поняли все: король считает, что для земной власти настал час отложить в сторону меч и весы, забыть опыт, забыть веками отточенную мудрость и довериться указующему персту Божьему.
Исправник взял стаканчик и попросил судью и любого из стоящих рядом кинуть кости на барабан – убедиться, что кости как кости, цифры на гранях от единицы до шестерки. Все, как и должно быть. Никакого жульничества.
Когда кубики застрекотали по натянутой коже барабана, многих охватил страх. Эти с виду невинные игрушки стоили жизни и счастья многим их знакомым… неужели можно им доверить провозгласить Божью волю? Стоят ли того они, а может, в них самих таится обман? Наверняка кости изобретены не человеком, а дьяволом.
Кости опробовали, убедились – все в порядке. Подсудимых подвели к барабану. Стакан передали Эрику Иварссону, как самому старшему из трех. Исправник успокоил Эрика – это еще не окончательный жребий. Сначала надо определить, кому кидать кости первым.
Пауль набрал наименьшее количество очков, Ивар Иварссон – наибольшее. Ему и начинать.
За время, что они сидели под стражей, одежда, та же, что и была на них, когда они встретили ротмистра в лесу, испачкалась и истрепалась. И сами обвиняемые, так же как их одежда, выглядели ужасно. Многим показалось, что Ивар Иварссон смотрится лучше других, но этому тут же нашлось объяснение – он же солдат, да еще и побывал в плену. Привык ко всякого рода передрягам. Держится прямо, достойно, ни малейших признаков страха.
Ивар Иварссон принял у исправника стакан и посмотрел ему в глаза.
– Не впервой, – громко, так, чтобы все слышали, сказал он и слегка улыбнулся. – Игрывал я и с Большим Бенгтом из Хедебю. И кости были такие же. Не раз игрывал, пока коротали мы вечера в русской степи.
Исправник хотел было его поторопить, но толпа возмущенно загудела – дай человеку договорить!
– Но даже подумать не мог! – продолжил Ивар Иварссон. – Даже во сне такое не приснится! Надо же, придется еще разок сыграть в кости с самим генералом.
Вот это самообладание! Ему на смерть идти, а он шутит.
Ивар Иварссон сжал стаканчик ладонями – он молился. Тихо прочитал «Отче наш» и снова посмотрел на исправника:
– И молю тебя, Господи наш Иисус Христос… ты знаешь, я невинен, но молю тебя – сделай так, чтобы мне выпало меньше всех. У меня нет ни детей, ни жены, ни любимой, плакать по мне некому.
Произнес эти слова – и, не глядя, кинул кости на барабан.
И что же? Все до единого, и мужчины, и женщины, – все желали, чтобы Ивара Иварссона отпустили на все четыре стороны. Он им понравился – такой мужественный, такой смелый, такой благородный. Как они могли даже подумать, что он преступник? А как невыносимо стоять так далеко, что не только пятнышки сосчитать, сами кости почти не видны!
Судья и исправник наклонились над барабаном, подошли и заседатели. Переглянулись, удивленно пожали плечами, кто-то из присяжных даже пожал руку Ивару Иварссону.
Толпа пребывала в неведении. Начался ропот, возмущенные возгласы.
– Ивар Иварссон выкинул две шестерки, больше выкинуть невозможно, – выкрикнул исправник.
Все понятно – бывший солдат свободен. Послышались радостные пожелания:
– Будь счастлив, Ивар Иварссон!
Но тут произошло событие, повергшее толпу в полное недоумение. Пауль Элиассон издал радостный вопль, сорвал шапку и подбросил в воздух. Это было так неожиданно, что стражники не успели ему помешать. Но что с Паулем? Да, конечно, Ивар для Пауля все равно что отец, но ведь дело-то идет о жизни и смерти! Неужели он и вправду радуется, что освободят кого-то другого, а не его?
Порядок постепенно восстановили, толпа утихомирилась. Все разошлись по своим местам: чиновники направо, стража и обвиняемые налево. Теперь роковой барабан опять виден всем и каждому.
Настала очередь Эрика Иварссона.
Нет, Эрик выглядел далеко не так браво, как его брат. К барабану подошел сломленный старик. Его трудно было узнать, он даже шел с трудом – стражникам пришлось поддерживать его под локти. Неужели это Эрик Иварссон, всегда бодрый, веселый, полный сил и планов? Взгляд его блуждал – похоже, он не очень понимал, где находится и что ему предстоит.
Эрик дрожащей рукой принял стакан с костями и сделал попытку выпрямиться:
– Благодарю Бога… Благодарю Бога, что Он освободил от подозрений моего брата Ивара. Я так же невинен, как и он, но Ивар – лучший из нас двоих, и я прошу Господа нашего Иисуса, чтобы Он позволил мне сделать самый плохой бросок. Тогда моя дочь сможет выйти замуж за того, кого она любит всем сердцем, и они будут жить счастливо до конца жизни.
Так бывает со стариками – тающая сила жизни переходит в голос. Толпа услышала каждое сказанное Эриком Иварссоном слово. Поднялся шум. Непохоже на Эрика, чтобы он признал кого-то более достойным, чем он сам, и тем более пожелать себе смерти ради счастья кого-то другого. Это было настолько величественно, что в толпе уже никто не верил в его вину. Как может такой благородный человек быть вором и убийцей? У многих на глазах выступили слезы, кто-то молился, чтобы Эрик выбросил побольше.
Эрик даже не потряс стаканчик, как это делают игроки. Он, не глядя, перевернул глиняную посудину, отвернулся и замер.
Кости с глухим стуком вывалились на кожаную мембрану барабана. Судья и присяжные поспешили посмотреть на результат.
Подошли к барабану и замерли. На лицах их читалось теперь не просто удивление, как в первый раз, а самое настоящее изумление.
На этот раз они даже не успели объявить результат. Толпа мгновенно все поняла, и тишину прорезал пронзительный женский голос:
– Благослови тебя Бог, Эрик Иварссон!
И сразу последовал многоголосый крик толпы:
– Благодарение Богу, Он помогает невинным! Он помог и тебе, Эрик Иварссон!
И опять в воздух взлетела шапка Пауля Элиассона. Что с ним? Неужели он такой идиот? Неужели не понимает, что обречен на верную смерть?
Эрик Иварссон так и стоял неподвижно. Сначала думали, что он ждет, когда будет известен результат, но странно! – даже когда судья объявил, что Эрик так же, как и его брат, выкинул две шестерки, лицо его ни на секунду не просветлело. Он кое-как добрел до своего места, совершенно обессиленный. Если бы стражник его не поддержал, наверняка упал бы.
Все взгляды были устремлены теперь на Пауля Элиассона. Люди и раньше подозревали, что он и есть преступник, а теперь Пауль, считай, приговорен: вряд ли три раза подряд выпадут шестерки.
Ну что ж, Бог все видит. Но что это?
Все были так ошеломлены невиданным результатом жребия, что никто не заметил, как Марит Эриксдоттер проскользнула мимо стражников и встала рядом с женихом.
Он обнял ее за талию. Никаких поцелуев, никаких ласк. Она просто стояла и молчала, прижавшись к жениху. Никто не мог бы сказать, когда именно Марит успела подойти к Паулю, – все напряженно смотрели, как Эрик Иварссон кидает роковые кости.
Непостижимо! Как она там оказалась? Только что стояла, где поставил ее служитель, – и будто неведомая сила перенесла ее к жениху. По воздуху перелетела, как птичка. И никто – ни охрана, ни грозные судебные чиновники, ни смертельная игра не могли ей помешать.
Любовь… Нет, не обычная земная любовь объединила их в эту страшную минуту. Не юная страсть, нет, что-то иное, выше. Выше и чище. Они могли бы так стоять у плетня в тихое летнее утро – протанцевали всю ночь и впервые открылись друг другу, что хотели бы стать мужем и женой. Или после первого причастия, когда внезапно поняли: души их освобождены от греха. И даже не так – они выглядели так, будто оба уже перешагнули порог смерти. Перешагнули, встретились там, на другой стороне, и осознали, что ничто и никогда не сможет их разлучить.
Девушка, слегка приподняв голову, смотрела на своего жениха с такой любовью, что по толпе прошел ледяной ветерок ужаса. Все внезапно поняли, что жалеть-то надо именно его, Пауля Элиассона. Он как юное деревце, которому не суждено дожить до цветения, не суждено завязать плоды. Как засеянное поле ржи, которое затопчут и лишат возможности поделиться с другими своим богатством.
Пауль осторожно освободил руку, пошел за стражником к барабану и взял стакан с костями. Никакого страха или тревоги не читалось на его лице. Он не стал обращаться к людям, улыбнулся и крикнул Марит:
– Не бойся! Уж Господь-то знает, что я так же невинен, как и остальные.
Он ловко, даже весело покрутил стакан с костями, выкинул их на барабан и ждал, пока они перестанут прыгать по кожаной мембране. И тут уже не потребовалось вмешательство исправника: сам Пауль громко и отчетливо крикнул:
– Шестерки! Я выкинул две шестерки, Марит! Как и они, как Ивар, как Эрик, – две шестерки!
Конечно же он был уверен, что его тут же освободят из-под стражи. Подпрыгнул, уже в третий раз подбросил свою шапку, обнял стоящего рядом стражника и влепил ему поцелуй.
В толпе стали переглядываться. Все-таки заметно, что он русский. Швед никогда бы так себя не повел. Еще ведь не отпустили, чему же радоваться до времени?
Судья, исправник, присяжные и местная знать подошли к барабану – надо было убедиться, что все так и есть, но радости на их лицах не было. Стояли, качали головой, и никто даже не подумал поздравить Пауля Элиассона с удачным броском.
Исправник в третий раз подошел к крыльцу суда:
– Пауль Элиассон выкинул наивысшую возможную сумму – две шестерки.
Толпа зашевелилась, но радоваться, в отличие от Пауля Элиассона, никто не спешил. Мысль об обмане никому не приходила в голову – как тут можно обмануть? Кости есть кости. Но всеми овладело недоумение и даже страх: как же быть? Испытание не внесло никакой ясности.
Что это значит? Все трое одинаково невинны? А может, наоборот, все трое виновны в ограблении и убийстве?
Ротмистр Лёвеншёльд быстрым шагом подошел к судье. Хотел, наверное, сказать, что ничто пока не решено, но судья не стал его слушать, подозвал присяжных, и они скрылись за дверьми суда – на совещание.
Они вернулись довольно быстро.
– Суд склоняется к тому, что результаты испытания следует толковать в пользу обвиняемых и отпустить всех троих на свободу.
Пауль Элиассон оттолкнул стражников и вновь подбросил в воздух свою шапку – и на этот раз поторопился.
– Но! Мы обязаны согласовать решение уездного суда с мнением Его Величества, для чего в Стокгольм сегодня же будет послан курьер. В ожидании решения подозреваемые будут содержаться под стражей.
VIIIЛет через тридцать после этой памятной жеребьевки Марит Эриксдоттер сидела на крыльце свайного сруба в когда-то принадлежавшей ей усадьбе Стургорден в Ольсбю. Собралась связать варежки для внучатого племянника. Пусть порадуется ребенок. Мечтала, чтобы варежки вышли покрасивее, с полосками и клеточками, но с огорчением поняла, что не может припомнить ни один узор.
Порисовала немного спицей на ступеньке, прикинула – ничего не выходит. Поднялась в хижину и открыла свой сундучок. На самом дне лежала шапочка с затейливым, искусно вывязанным узором. Она задумчиво повертела ее в руках и вернулась на крыльцо.
Рисунок, конечно, красивый, но шапочка изрядно побита молью.
Что ж тут удивительного. Тридцать лет никто не надевал. Надо и остальные вещи посмотреть. Моль – такая зараза…
Шапочку украшал большой разноцветный помпон с кисточкой, в нем-то, скорее всего, и гнездилась моль. Марит встряхнула шапочку и чихнула – в воздух взвилось легкое облачко шерстяной пыли. Мало того, помпон оторвался и упал ей на колени. Она покачала головой и посмотрела, можно ли приладить его на место и есть ли в этом смысл. Похоже, уже вся шапка изъедена, начнешь работать – рассыплется в труху.
Внутри что-то блеснуло. Она раздвинула пряжу и увидела большой золотой перстень с печаткой из темно-красного, в изящных прожилках камня. Кто-то зашил его в помпон.
Шапка упала на пол. Она никогда раньше не видела этот перстень, но ей даже не понадобилось разглядывать инициалы и надпись на внутренней стороне – она и так знала.
Марит побледнела и прислонилась к треснувшей балясине. Ей показалось, что сердце сейчас разорвется.
Ее отец, дядя и жених поплатились жизнью за этот перстень – и вдруг она находит его в помпоне вязаной шапки Пауля!
Как он туда попал? И знал ли Пауль сам, что перстень у него?
– Нет! – чуть не выкрикнула Марит. – Он не мог знать!
И тут же вспомнила, как Пауль радостно подбрасывал эту шапочку в воздух – решил, что и он, и братья Иварссоны уже свободны и могут идти на все четыре стороны.
Эта сцена стояла у нее перед глазами, будто все происходило не тридцать лет назад, а вчера.
Она помнила, как толпа, поначалу издевательски-враждебная, постепенно приняла сторону обвиняемых. Она помнила нежно-голубое осеннее небо, тающие белые облака, помнила бесконечные косяки перелетных птиц – те словно заблудились и раз за разом с отчаянными криками проносились над площадью, где происходило судилище. Помнила, как Пауль шепнул ей – скоро и моя душа будет летать над тобой, как эта заблудившаяся птичка… позволишь ли ты ей поселиться под желобом в их усадьбе в Ольсбю?
Нет-нет, Пауль никак не мог знать, что в его шапочке зашит украденный перстень. В шапочке, которую он с такой детской радостью швырял в легкое, ничего дурного не предвещающее небо.