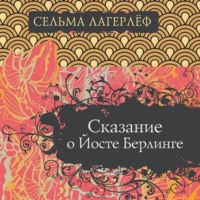Полная версия
Проклятие рода Лёвеншёльдов
Ты, конечно, поняла, что мать была безнадежно влюблена в барона Адриана. Достаточно послушать, как она о нем рассказывала – такой честный, такой добрый, такой красавец! И эти мечтательные глаза, и это непередаваемое изящество в каждом движении!
Ты всегда думала, что твоя мать, как и всякая влюбленная женщина, преувеличивает достоинства своего избранника. Если верить ее описанию, сразу ясно: она видит перед собой идеал. Подобных молодых людей на свете не существует. Их попросту нет.
Но, оказывается, есть! Тебе довелось такого увидеть, но только после того, как ты вышла замуж за органиста и переехала с мужем в приход церкви Креста Господня. В первое же воскресенье он поднялся на кафедру. Нет, бароном он не был, всего-то пастор Экенстедт, но приходился племянником барону Адриану, тому самому Адриану, который так нравился твоей матери, и ты его сразу узнала. Очень красивое, как на старинных портретах, лицо. Стройный, грациозный, юношеская гибкая повадка, ласковая улыбка – и, конечно, глаза. Мать то и дело говорила о глазах – глаза нельзя было не узнать. Огромные, добрые, мечтательные, с задумчивой поволокой глаза.
Тебе даже пришла в голову шальная мысль – уж не ты ли сама его сюда накликала? Так хотела поглядеть на избранника матери, так прониклась ее рассказами – и вот он. Любуйся, сколько влезет. Ты же прекрасно знала, что желания никакой плотской силы не имеют… а тогда откуда же он здесь взялся? Странно, странно… более чем странно.
Он не обращал на тебя никакого внимания. В конце лета обручился с этой задавакой Шарлоттой Лёвеншёльд и почти сразу уехал в Упсалу продолжать образование.
Вот и все, решила ты. Он исчез из твоей жизни навсегда и бесповоротно. Сколько ни мечтай, сколько ни желай, с этим покончено.
Но где там… Миновало пять лет, ты пришла в церковь – и что же? На кафедре стоял он, собственной персоной. И опять тебе показалось: если бы ты так сильно и так страстно не желала его появления, он бы и не появился. Ни за что.
Так что твои желания имеют немалую силу. Немалую – но ограниченную. Появиться-то появился, что да, то да, но по-прежнему не обращает на тебя никакого внимания. И по-прежнему обручен с Шарлоттой Лёвеншёльд.
Нет-нет, ты никогда не желала Шарлотте зла. И даже можешь поклясться на Библии – никогда не желала. Но иногда мечтала: вот бы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь еще. Или богатый родственник пригласил ее в долгую заграничную поездку. Все что угодно, лишь бы каким-то безобидным и безболезненным способом разлучить ее с молодым Экенстедтом.
Ты жена церковного органиста. Прост почти всегда приглашает вас, когда собираются гости. И ты слышала дерзкое заявление Шарлотты – не пойдешь в преподаватели, выйду замуж за Шагерстрёма. Если сделает предложение – выйду.
После этого ты ночи напролет мечтала, чтобы Шагерстрём и в самом деле сделал Шарлотте предложение. Кто мешает мечтать – мечты все равно не сбываются.
Если бы желания людей имели хоть какую-то власть, на земле все было бы по-иному. Даже представить трудно! Все желают себе добра – само собой, никто себе зла не пожелает. Хотят избавиться от грехов, от болезней, от бедности. Да что там от болезней… не просто от болезней, даже смерти хотят избежать. Сбылись бы такие пожелания – и на земле не протолкнуться. Никто бы не умирал.
Нет, никакие желания силы не имеют. Как может желание одного человека изменить назначенный Господом порядок жизни?
* * *Но в один прекрасный летний день жена органиста увидела в церкви Шагерстрёма. Мало того, обратила внимание, что он занял место с таким расчетом, чтобы посматривать на сидящую с пасторшей на семейной скамье Шарлотту Лёвеншёльд. Пусть она покажется ему красивой и привлекательной! Господи, сделай так, чтобы она показалась ему очень красивой и очень привлекательной!
Она даже сжала кулаки: надо придать своему желанию больше силы и убедительности. Ведь я никому не желаю зла! Разве грешно пожелать девушке богатого жениха?
И весь этот день она провела как в лихорадке: ей казалось, завтра что-то произойдет. Ночью она не спала ни секунды, ее буквально подбрасывало на кровати все то же странное чувство: завтра что-то произойдет. На следующее утро – то же самое: все валилось из рук. Она целое утро просидела у окна. Сидела и ждала.
Почему-то ей казалось, что вот сейчас, сию минуту мимо пролетит ландо Шагерстрёма, но произошло нечто еще более странное.
К ней пришел Карл-Артур.
Можно понять: она чуть не захлебнулась от счастья. Но можно понять и другое: вряд ли кто-то удивится, что она, бедняжка, совершенно оцепенела от застенчивости.
Что делать? Просто поздороваться, скромно и достойно, как подобает замужней женщине? Сделать реверанс? Пригласить в дом?
Мы не знаем, что происходило в ее голове, но долго ли, коротко – он уже сидит на лучшем стуле в ее маленькой каморке, а она молча смотрит на него.
Никогда она не думала, что Карл-Артур выглядит так молодо. Сейчас, когда он был так близко, она не верила своим глазам. Она же постаралась разузнать все про его семью, знала, что он родился в тысяча восемьсот шестом году, значит, сейчас ему двадцать девять. Ни за что бы не дала.
Он очаровательно и серьезно, как всегда, объяснил, что именно привело его в ее дом. Оказывается, он только теперь узнал из письма матери, что она дочь той самой Мальвины Спаак, доброго гения Лёвеншёльдов, и очень жалеет, что не знал раньше. Как же вы сами не поставили меня в известность?
Она только теперь сообразила, почему он на нее не обращал внимания. Она-то была уверена, что он знает! Но от счастья не смогла выдавить даже пары разумных слов – пробормотала что-то невнятное и бессмысленное. Настолько бессмысленное, что он вряд ли понял, что она хотела сказать.
И посмотрел на нее с удивлением: как может уже немолодая замужняя женщина быть настолько застенчивой?
Чтобы дать ей успокоиться, начал рассказывать про ее мать, Мальвину Спаак, про жизнь в Хедебю, о призраке генерала, о кошмарном перстне, наводившем страх на весь уезд.
Сказал, что хотя ему и трудно поверить в некоторые детали, во всем произошедшем в те времена он видит глубокий смысл. Для него этот перстень – символ всего земного, символ нелепой привязанности человека к плотской жизни с ее вечным призраком счастья и богатства. А эта привязанность, по его мнению, – непреодолимое препятствие для попадания в Царство Небесное.
Подумать только, Карл-Артур, предмет ее грез, постоянный гость бессонных ночей, сидит рядом и беседует с ней, как старый сердечный друг! И вновь ее захлестнула горячая волна… она едва не задохнулась от счастья.
Он, похоже, уже привык, что его тирады остаются без ответа, и продолжал говорить. А возможно, ему это даже нравилось.
Сказал, что постоянно вспоминает обращенные к богатому юноше слова Иисуса: «Продай имение твое и раздай нищим». И еще: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие!»[18]. И, по его мнению, всем бедам человеческим первопричиною вот что: люди любят созданное ими самими больше, чем Того, кто создал их самих.
Он остановился и повторил:
– Люди любят созданное ими самими больше, чем Того, кто создал их самих!
Она по-прежнему молчала, но в ее молчании было что-то такое, что подвигало его продолжать эту доверительную речь. Он признался, что у него нет никакого желания становиться простом в крупном приходе, высокий духовный сан его не привлекает. Ему не нужна шикарная усадьба с большим земельным наделом, с церковными архивами за триста, а то и больше лет – что ему делать со всем этим хозяйством? Он мечтает о крошечном деревенском приходе, где у него было бы время заняться самосовершенствованием, спасением своей души. Зачем ему усадьба? Вполне достаточно маленького серого домика в глуши, но важно, чтобы из окна открывался красивый, умиротворяющий вид – пусть дом построят в березовой роще на берегу моря. Или озера, на худой конец. А жалованье… что ж, жалованье; главное – не голодать.
Она постепенно поняла, что его волнует. Он хочет своим примером показать людям путь к истинному счастью. Ею овладел почти молитвенный восторг: она никогда не встречала подобных людей. Юность и душевная чистота – в святом, но, увы, таком редкостном союзе. Как будут любить его прихожане в этом его воображаемом крошечном приходе!
Но тут ей показалось, что нарисованная им пасторальная картина плохо соотносится с тем, что она слышала совсем недавно. И решила внести ясность.
– Может быть, я ослышалась, – сказала она робко. – Но мы недавно были в усадьбе господина проста, и ваша невеста сказала, что господин адъюнкт собирается искать место преподавателя в гимназии.
Гость вскочил со стула, будто подброшенный пружиной, и начал мерить шагами ее каморку.
– Шарлотта так сказала? Вы уверены, что она сказала именно так? Он спрашивал с таким неожиданным напором, что она даже испугалась.
Но сразу взяла себя в руки:
– Насколько мне помнится, так она и сказала. Именно так.
Карл-Артур внезапно покраснел – щеки сделались совершенно пунцовыми. Будь на его месте кто-то другой, она бы решила, что ее собеседник разозлился.
Она пришла в ужас. Чуть не упала перед ним на колени – вымолить прощение. Она же и предположить не могла, что его так взволнуют ее слова! Просто хотела спросить… Что сделать, чтобы сгладить свою ошибку?
Она нервно потерла ладони. Вдруг услышала шум и по привычке повернулась к окну. Мимо промчалось ландо Шагерстрёма. В другое время она бы задумалась – куда это он, интересно, навострил лыжи? Неужели? Да нет, вряд ли. К тому же сейчас ей было не до Шагерстрёма. А Карл-Артур даже и внимания не обратил. Продолжал мерить шагами ее комнатушку с самым суровым видом.
Наконец он перестал метаться, подошел к ней и протянул руку для прощания. Господи, ну почему он уходит?.. И это ее вина. Она готова была откусить себе язык – зачем ей понадобилось прерывать его дурацким вопросом? Испортила настроение, и не кому-то, а Карлу-Артуру, герою ее бессонных ночей.
Но что теперь сделаешь? Ничего. Слово не воробей. Остается пожать руку. Остается проводить взглядом.
Почему пожать? Она склонилась, поднесла его руку к губам и поцеловала.
Он вырвал руку и с удивлением уставился на нее.
– Я только хотела… попросить… попросить прощения, – заикаясь, пролепетала она.
В ее глазах появились слезы, и он понял, что чем-то ранил эту славную женщину. Он не может просто так уйти. Надо как-то объяснить ей причину своего гнева.
– Представьте себе, фру Сундлер, что вы добровольно завязали себе глаза. Вы завязали глаза, вы ничего не видите, и вот вы доверили другому, очень близкому вам человеку быть вашим поводырем. И представьте: повязка случайно упала с ваших глаз, и вы увидели, что перед вами пропасть… пропасть, фру Сундлер! Тот, кому вы доверяли больше, чем самому себе, ваш друг, ваш поводырь, привел вас на край бездны… еще шаг – и вы погибли. Неужели вы бы не сокрушались, обнаружив такую измену?
Он произнес все это на одном дыхании и, не дожидаясь ответа, вышел в сени.
Тея Сундлер робко прислушивалась к его шагам… он уходит. Нет… остановился? Вышел во двор и остановился. Может, решил вернуться? Или совсем расстроился? Подумать только – всего несколько минут назад, когда он появился на ее пороге, он был счастлив, вдохновенно рассказывал о своих планах на жизнь. А уходит в гневе и отчаянии. Она, ни о чем не думая, выскочила во двор.
Он увидел ее и тут же начал говорить. Его опять накрыла волна вдохновения, и он был рад слушателю.
– Смотрю на эти розы, которые вы с таким вкусом и так заботливо посадили у входа, дорогая фру Сундлер. Смотрю и спрашиваю себя: не самым ли прекрасным было это лето в моей жизни? Подумайте сами: сейчас конец июля, тепло, но то, что было в июне, почти совершенство. Длинные, светлые дни… кажется, длиннее и светлее, чем в предыдущие годы. Было жарко, да, но жара никого не удручала, потому что дул легкий, освежающий ветерок. И земля не страдала от засухи, как в другие годы, – чуть ли не каждую ночь шли теплые летние дожди. Посмотрите, как разрослось все вокруг! Вы заметили, столько листьев на березах? А цветочные клумбы в садах – никогда не видел такой роскоши, как в этом году. Готов настаивать: земляника никогда не была такой сладкой, птичье пение никогда не было настолько зазывно-мелодичным… и люди, пожалуй, никогда не были так веселы и счастливы, как этим летом.
Он замолчал, переводя дух. Тея Сундлер приказала себе молчать – не дай Бог опять помешать его красноречию. Вспомнила мать – теперь она понимала, что та чувствовала, когда молодой барон Адриан заходил в кухню или молочную и доверчиво изливал ей душу.
– А по утрам, в пять часов, я смотрю в окно и ничего не вижу, кроме измороси и тумана. Кажется, весь мир полон дождем – капли его выбивают еле слышную дробь на крыше, на откосах окон, на траве, это даже не шум, а томительный, загадочный шорох. Цветы склонили головки под тяжестью струй. Все небо занято тучами… подумайте – ни единого просвета! Они, кажется, не висят в воздухе, как полагается тучам, а ползут по земле. «Вот и все, – думаю я. – Лету пришел конец. Может, оно и к лучшему».
И хотя я каждый раз почти уверен, что так оно и есть, лету пришел конец, но, оказывается, нет. В пять минут шестого дождь, как по команде, прекращается. Уже не слышно его монотонного бормотания… правда, водосточные трубы еще журчат несколько секунд по инерции, а потом и они смолкают. Самая тяжелая, самая угрюмая туча открывает занавес – и надо же: открывает его как раз там, где стоит невидимое пока солнце, и поток света, немыслимый еще пять минут назад, швыряет на мокрую от дождя траву драгоценную алмазную россыпь. Поднимающийся от горизонта серый, безнадежный туман превращается в нежную голубоватую дымку, цветы гордо поднимают склоненные головки. Наше маленькое озеро, край его виден из моего окна, уже не серое, как солдатская шинель, оно сверкает, будто на него мановением руки накинули вуаль из солнечных искр, будто тысячи золотых рыбок всплыли на поверхность и поворачиваются с боку на бок, подставляют сверкающую чешую расшалившемуся солнцу… Красота эта трогает меня до слез, фру Сундлер… я настежь открываю окно, полной грудью вдыхаю наполненный сказочными ароматами и несравненной утренней свежестью воздух и восклицаю в умилении: «О, Господи, ты сделал этот мир слишком прекрасным!»
Молодой помощник пастора прервал свой монолог, улыбнулся и пожал плечами, точно извиняясь. Наверное, подумал, что новая знакомая обескуражена вспышкой красноречия.
И поторопился объясниться:
– Да… когда я сказал, что хорошо бы лето кончилось, я именно это и имел в виду: хорошо бы, чтобы лето кончилось. Я боялся и сейчас боюсь, что этот изумительный, роскошный подарок природы отвлечет меня от главного, заставит полюбить все земное. Не раз призывал я Господа, чтобы Он прекратил этот соблазн, чтобы послал засуху, зной, ураган, громы, молнии, бесконечные дожди и зябкие, сырые ночи, ведь мы привыкли… так бывает почти каждый год.
Тея Сундлер внимала каждому слову и поначалу пыталась сообразить: куда он клонит? А потом решила: неважно. Лишь бы говорил – ей казалось, она никогда не устанет от неслыханно мягкого, бархатного тембра его голоса, от поэтической речи, от выразительного, прекрасного лица, на котором так быстро менялись эмоции.
– Или нет… скорее, не понимаете. Наверное, природа не имеет над вами такой власти, она не говорит с вами своим тайным языком. Она никогда не спрашивает вас, как спрашивает меня: почему ты не следуешь моим законам? Почему не наслаждаешься с благодарностью моими дарами? Почему не стремишься к счастью? Оно же совсем рядом – только протяни руку! Построй дом, женись на своей любимой! Почему ты не берешь пример со всего живого? Так поступают все живые существа этим благословенным летом…
Он приподнял шляпу и тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб.
– И… о чем я? Да… это волшебное лето заключило союз с Шарлоттой. Меня опьянила всеобщая нега, я словно ослеп. Шарлотта наверняка заметила, как с каждым днем растет моя любовь к ней, как я жажду ею обладать… о, вы же ничего не знаете. Я расскажу вам. Каждое утро в шесть часов я покидаю мой флигель и иду в большой дом пить кофе. В большом, светлом зале все окна открыты, воздух наполнен дыханием сада. Меня встречает Шарлотта. Веселая, как птица… и мы пьем кофе. Пьем вдвоем, она и я. Прост и пасторша встают позже. Вы, наверное, думаете, она пользуется такими случаями, чтобы поговорить о нашем совместном будущем? Ничего подобного. Она говорит о моих нищих, бездомных, о больных прихожанах, о том, что именно в моих проповедях произвело на нее самое сильное впечатление. То есть ведет себя как настоящая жена пастора. И про возможность этой злополучной учительской карьеры она если и упоминала, то мимоходом, самое большее два или три раза. И то, как мне казалось, больше в шутку. День за днем она становилась мне все более дорога, и когда я возвращался за свой рабочий стол, никак не мог взяться за дело – думал о Шарлотте. Да… я уже рассказывал вам, какой мне видится моя жизнь. Моя любовь, мечталось мне, поможет Шарлотте избавиться от ее заблуждений, от мирских оков, и она последует за мной в тот маленький серый домик… Ну да, я уже упоминал о своей мечте.
И тут Тея Сундлер не смогла удержаться от восклицания. Она даже хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее.
– Да-да, вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она только ждала удобного момента, чтобы заставить меня подать прошение на должность гимназического учителя. Она, безусловно, заметила, как действует на меня это волшебное, это коварное лето. И уже была уверена, что достигнет цели; а сказала она это только для того, чтобы подготовить вас и других к тому, что я собираюсь переменить жизнь и стать учителем гимназии. Но Бог меня защитил.
Он вдруг подошел совсем близко. Наверное, прочитал на ее лице радость и волнение, которое она испытывала от его слов. Но это неожиданно привело его в ярость – подумать только, она наслаждается его страданием! Его красивое, нежное лицо сделалось злым и неприятным.
– Только не думайте, что я благодарен вам за ваше напоминание, – чуть не скрипнув зубами, сказал он.
Тея оцепенела.
Он сжал кулак и помахал перед ее лицом:
– Да, вы сорвали повязку с моих глаз, но я вовсе не собираюсь вас благодарить. Напротив. Вы не дали мне упасть в бездну, но я вас ненавижу и не хочу больше видеть!
И ушел по узкой тропинке, ни разу не повернувшись. А несчастная Тея Сундлер вернулась в свою комнатенку, бросилась на пол и зарыдала так, как не рыдала ни разу в жизни.
Пасторский сад
Если идти так, как шел Карл-Артур, от дома органиста Сундлера до пасторской усадьбы – пять минут, не больше. Но сколько он за эти пять минут успел передумать, сколько гордых и горьких фраз родилось в его голове! Как только увидит свою невесту, все ей выскажет.
Все, бормотал он, настал час. Меня ничто не остановит. Сегодня же все решится. Сегодня же! Она должна понять… она не может не понять! Как бы я ее ни любил, ничто не может заставить меня преклоняться перед земными соблазнами, ничто! А она к ним только и рвется. Мой долг и мой путь – служить Богу. Если она не хочет разделить со мной этот путь, я вырву ее из своего сердца.
Он шел, время от времени гордо встряхивая головой, будто отрицая какие-то недостойные компромиссы, и ясно чувствовал, как приходят сами по себе, без обдумывания, нужные слова. Слова, способные не только убедить, разжалобить, повести за собой, но и раздавить и сокрушить. Будто открылась дверь в тайник, в волшебный сад в его душе, сад, о существовании которого он до этой минуты даже не подозревал. В саду этом пышно ветвилась виноградная лоза, цвели невиданные торжественные цветы, но это были не цветы и не гроздья, это были совершенные по форме слова и фразы – мудрые, святые, грозные, убедительные. И, оказывается, ему достаточно просто войти в этот сад и распоряжаться – несметное богатство принадлежит ему и только ему.
Он даже рассмеялся от наслаждения. Он-то, кляня самого себя, сидел и корпел над своими проповедями, выучивал чужие слова и никогда не был уверен, что именно эти слова – нужные. А оказывается, все это время в душе его таилось великое богатство…
А Шарлотта… она все время пытается им управлять. Но теперь все изменится. Все изменится. Говорить будет он, а она будет слушать и следовать за ним, куда он прикажет. Она будет смотреть ему в рот и внимать каждому слову. Так же, как жена органиста.
Предстоит, разумеется, борьба, и нелегкая борьба, но он не отступит ни на шаг.
– Скорее я вырву ее из моего сердца. – Он вслушался, как звучат эти слова, и с немного испугавшим его наслаждением повторил: – Вырву из сердца!
Карл-Артур подошел к усадьбе, взялся за рукоятку калитки и замер: слуга с трудом открыл тяжелые ворота, и из усадьбы выехал… даже не выехал, а вылетел элегантный экипаж, запряженный четверкой вычищенных до горячего блеска статных вороных коней.
Он сразу понял: приезжал патрон Шагерстрём – и тут же вспомнил. В усадьбе были гости, пили кофе, и Шарлотта, глядя на промелькнувшее ландо, пошутила: если Шагерстрём сделает ей предложение и если Карл-Артур не пойдет в учителя, она даст согласие. Тогда он рассмеялся, а сейчас вздрогнул, как от удара грома, – что здесь делал Шагерстрём? Приезжал свататься к его невесте?
Предположить такое можно только вопреки всем доводам разума, но сердце все же ёкнуло. Почему? Может быть, потому, что Шагерстрём как-то странно глянул на него, выезжая на проселок? И вправду странно: то ли с любопытством, то ли с состраданием…
И вдруг пришла уверенность: так и есть. Шагерстрём сделал Шарлотте предложение. В глазах потемнело. Карл-Артур почувствовал такую слабость, что пришлось приложить немало усилий, чтобы отворить не особо тяжелую калитку.
Шарлотта дала Шагерстрёму согласие. Он ее потерял. Потерял навсегда, и теперь остается только умереть…
Его охватило отчаяние. И тут он увидел Шарлотту. Она спустилась с крыльца и поспешила к нему. Порозовевшие щеки, веселый блеск в глазах, на губах – победительная улыбка. Хочет, видно, его порадовать – сообщить, что выходит замуж за самого богатого мужчину в приходе.
Какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки:
– Не подходи ко мне!
Она опешила и остановилась. Какое бесстыдство и какое самообладание! Ей надо было идти в театр. На лице ничего не отразилось, кроме удивления.
– Что с тобой?
– Тебе лучше знать, – собрав все силы, звенящим шепотом произнес он. – Что здесь делал Шагерстрём?
И тут она поняла – Карл-Артур сообразил, зачем приезжал Шагерстрём, и решил, что она согласилась на его предложение. Шарлотта подошла вплотную к жениху и подняла руку. Он невольно отшатнулся – испугался, что ударит. Глаза ее потемнели от гнева.
– Вот оно что… Значит, ты, как и другие, считаешь, что я способна нарушить слово ради звона золотых побрякушек…
Посмотрела на него с граничащим с брезгливостью презрением, повернулась и пошла прочь.
Слава Богу… худшие подозрения не подтвердились. К нему вернулись силы, сердце забилось ровнее, и он двинулся за ней.
– Но он сделал тебе предложение? Или нет? – крикнул он вслед.
Шарлотта не удостоила его ответом. Даже не обернулась. Прошла мимо крыльца, выпрямила спину и направилась к узкой тропинке через кустарник, которая вела в сад.
До него дошло – у нее были все основания обидеться. Неужели она и в самом деле отказала Шагерстрёму? Какой благородный, величественный жест!
Он попытался загладить вину.
– Ты бы видела его физиономию! – крикнул вдогонку. – По физиономии никак не скажешь, что он получил от ворот поворот.
Она не ответила, только выпрямилась еще больше, откинула голову и посмотрела на небо. Ей ничего не надо было говорить – этим жестом все сказано.
Не подходи. Я иду в сад, потому что хочу побыть одна.
Он ругал себя на чем свет стоит. Она отказалась от несметного богатства, от роскошной жизни – и все ради него, пасторского адъюнкта.
– Шарлотта! Шарлотта, любимая!
Она, не поворачиваясь, покачала головой и свернула на садовую аллею.
Ах, этот сад, этот пасторский сад… можно ли найти другое место, хранящее столько памяти об их встречах, о драгоценных всплесках сердечной привязанности и любви…
Заложен в манере, которую принято называть французской: множество пересекающихся троп, густо обсаженных кустами разнообразной сирени, в которых тут и там открывались узкие проходы, ведущие в укромные зеленые беседки, а в беседках устроены засаженные травой дерновые ступеньки, очень похоже изображающие диванчики. Или вы попадаете на изумрудно-зеленый коврик ухоженного газона, а в центре его красуется роскошный розовый куст. Сад небольшой, да и образцовым его не назвать, но уютен до крайности. А главное, всегда можно укрыться, когда хочется побыть наедине.