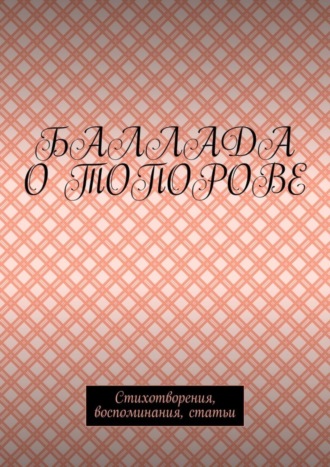
Полная версия
Баллада о Топорове. Стихотворения, воспоминания, статьи
Зазубрин написал Адриану Митрофановичу:
А в «Сибирских огнях», к сожалению, при новой АППовской редакции придумали, мягко говоря, недобрый термин И учитель на несколько месяцев оказался без работы. Ему запретили устраивать читки, и он, не выдержав преследования, покинул Сибирь. «топоровщина».
Но доброе дело нельзя заглушить: книга «Крестьяне о писателях» воскресла. В 1963 году она была в отличном оформлении переиздана в Новосибирске под моей общей редакцией. Она посвящена «Памяти тех, кто простым чистым сердцем поняли величие коммунизма и своими трудовыми руками положили первые камни в строительство его светлого здания в Сибири».
Тут выяснилось, что отец Г. С. Титова был учеником Топорова, и в книге мы дали портрет космонавта-2 с автографом:
Мы дали также воспоминания его отца «Мой первый учитель». И книга была переиздана несколько раз в Москве и в Барнауле.
За мою скромную причастность к публикации бесценного труда Адриан Митрофанович в дарственной надписи на первом переиздании назвал меня , вдохновившим его и поддержавшим Если это в какой-то степени заслуга, то я отношу ее целиком к редакции нашей газеты «Звезда Алтая». «крестным отцом» «на дерзкий опыт крестьянской критики художественной литературы» «в черные годы гонений на этот опыт».
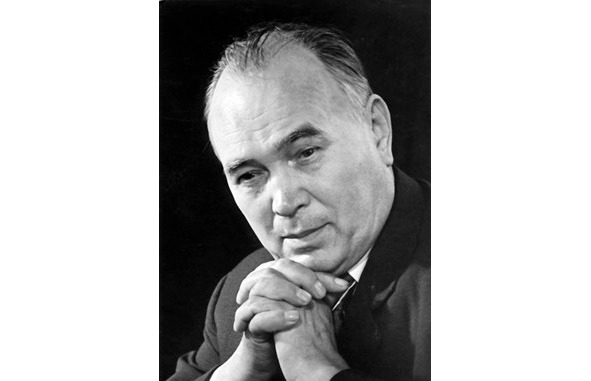
– Стихами Пушкина не налюбуешься! Не шел бы домой!
– Для меня была беда при чтении Пушкина. Шут ее знает как и быть! Старухе моей надо слушать Пушкина, Ваське с Нюркой тоже надо и мне надо! А дома некому за маленькими глядеть. Никто не хочет домоседить. Так я уж так делаю: усыплю маленьких, хату на замок и в школу.
– Пушкин шибко радует меня… Как ребенок, я радуюсь на читке. Слушаю – и радуюсь и радуюсь. И хоть где печальное у него написано, а после на душе все-таки приятность. И даже где непонятное для меня немного – и то я чуяла ублаготворение. Как ровно вокруг меня был праздник, люди, цветы и музыка. Так гластилось.
– Вранье! Прекратить чтение!
«В „Звезде Алтая“ читал отрывки из Вашей работы. Это очень интересный почин. Пришлите нам для „Сибирских огней“».
«Я только на праздниках смог как следует посмотреть Вашу работу. Конечно, она необычайно ценна. Читал я ее, как самую увлекательную повесть или роман. Мы ее поместим в двух номерах…»
«Это страшно освежает и взбадривает. Пусть меня разругают, но в такой ругани можно многое почерпнуть и многому научиться».
«Черкните, как живете. Коптелов говорил, что Вас жмали и опять хотят жмать или уже жмут».
«Дорогой Адриан Митрофанович!.. Всю мою сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон».
МИРОШНИЧЕНКО Е. Г. «ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ – СДЕЛАЙТЕ ДОБРО» 30 31
К Топорову нужно было приходить в точно назначенное время. Он ценил в людях точность и видел в ней проявление общей культуры человека, его уважения к собеседнику. На этот раз время свидания оговорено не было.
Мирошниченко Е. Г., Николаев. Wikimedia Commons. Автор фотографии в источнике не указан
…Дежурная санитарка поставила перед ним на тумбочку немудреный ужин, и в ответ, естественно, последовало топоровское: . Учитель оставался учителем. Это было за три недели до кончины. «Благодарю вас»
Конечно, он знал, что дни его сочтены. Передо мной блокнот с записью последней беседы.
– Смерти не боюсь, – говорил с паузами Топоров, – думаю вот еще встать на ноги, попасть домой, чтобы рассказать близким, где что лежит .
Да, он рвался домой, чтобы распорядиться богатством – итогом 75-летнего творческого труда: рукописями, архивом, книгами. Последние годы он работал над сборником педагогических воспоминаний и размышлений. Могли бы составить отдельную книгу и его статьи, выступления в защиту русского литературного языка. Ждет своего редактора и другая топоровская рукопись – «Настольная книга скрипача». Он подготовил также рукопись занимательного задачника по развитию мышления и речи учащихся. Адриан Митрофанович говорил еще об одной книге, которая должна быть опубликована издательстве «Днiпро» (вышла там уже после смерти А. М. Топорова – «Мозаика», 1985. – .). И. Т
Удивительное дело. Этот человек не уставал спрашивать, выслушивать, восхищаться, проявляя такое внимание к собеседнику, какое не часто встретишь в наш торопливый век. Возник разговор о пушкинских местах в Михайловском, где студенты-филологи мечтают побывать в будущем году. Мы говорили о подвиге С. С. Гейченко, бессменного директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина. Я решился напомнить Адриану Митрофановичу слова из его письма в журнал «Нева» накануне собственного 80-летия:
После недолгого молчания Топоров произнес:
– И я бы мог так сказать.
Он всегда и охотно общался с работниками учительского ВУЗа, выступал перед студентами (последний раз в 90-летнем возрасте)…
Адриан Митрофанович умел мыслить масштабно и широко, умел сказать то, что воспринимается сегодня как мудрая истина. Передо мной письмо Топорова ученикам 44-й средней школы г. Николаева, отправленное 2 апреля 1983 года. Этим письмом я хочу закончить настоящие заметки. Письмо А. М. Топорова – завещание молодым:
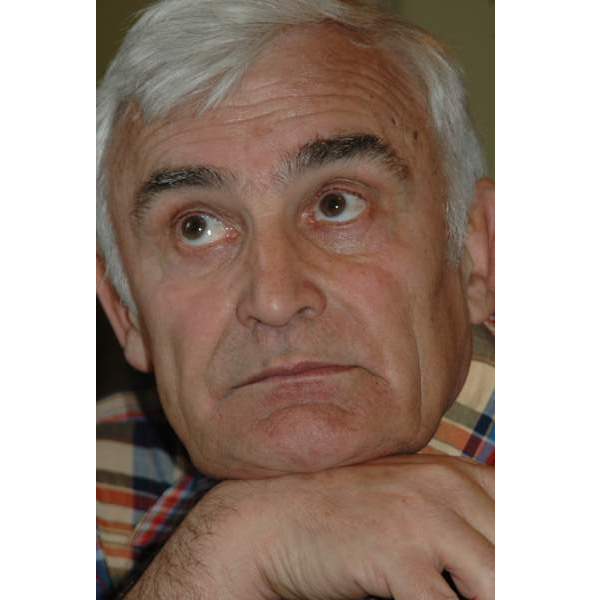
– размышлял хранитель пушкинской музы «Смысл моей жизни – труд, . – Я работал всяко: и как каторжник, и как солдат, и как ученый. Изобретатель, художник, писатель, и как вообще человек одержимый. В моей груди всегда был кипяток».
«Учитесь в школе на „отлично“ и „хорошо“. Это ваш первый долг.
Но знайте, что настоящее, капитальное образование – это ежедневное, до последнего вздоха самообразование. Его вы получите не в учебных заведениях, а в библиотеках. Только там хранится сокровищница всей мудрости человечества, добытой в течение тысячелетий его культуры.
Неукоснительно исполняйте завет Льва Николаевича Толстого: „Украшай каждый проходящий день добрым делом“. Пусть оно будет самым незначительным, пусть будет сделано кому-то в семье, соседу. Товарищу, школе, больному человеку, инвалиду, обществу.
Всегда помните: доброе дело полезно не только тому, кому оно сделано, но и вам самим. Проверьте себя – сделайте добро. Вы непременно почувствуете в сердце радость. А это чувство усилит здоровье вашего организма. Желаю вам всяческого добра!»
ОСЕТРОВ Е. И. АДРИАН ТОПОРОВ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ 32 33
Когда почта приносила пакет, подписанный Адрианом Митрофановичем Топоровым, сердце невольно вздрагивало от радости, и перед глазами возникали лица и образы – родные, близкие, простодушные, красивые… Словом, такие, какими они нарисованы в одной из самых замечательных книг двадцатого столетья, вызвавшей в свое время сочувственные, полные доброжелательной радости отклики Максима Горького и Николая Рубакина, а также обширные писательские отзывы в печати.
Осетров Е. И., Москва. Wikimedia Commons. Автор фотографии в источнике не указан
Н. А. Рубакин, прочитав топоровскую книгу «Крестьяне о писателях», отметил, что ее ценность во Выдающийся просветитель писал в письме Топорову: «внутренней частности».
Автор знаменитого в двадцатых годах романа «Два мира» Владимир Зазубрин писал в 1934 году Топорову о том, какое большое значение придает Максим Горький работе Адриана Митрофановича:
Учительствуя в коммуне «Майское утро на Алтае, Адриан Топоров стал постоянно устраивать читки книг и самым дотошным образом записывал то, что говорили ему читатели-слушатели. Позднее Топоров отмечал:
Небольшая подробность, говорящая о движении времени. В числе тех, кто входил в топоровский кружок на Алтае, были Титовы, скромная супружеская чета, принимавшая посильное участие в размышлениях о читанном-перечитанном. Как и другие, они восхищались такими для них новыми словами, как «метеорит», «орбита»… Никому тогда и в голову не могло прийти, сын Титовых Герман станет космонавтом. Позже он скажет о Топорове, наставнике своего отца, что именно Адриану Митрофановичу он обязан своим воспитанием и первыми знаниями, приобретенными в жизни.
Но вот пришло из Николаева известие о смерти А. М. Топорова.
Теперь, когда мы взялись за изучение читательских вкусов, когда возник Большой Читатель, опыт Топорова имеет для нас поистине неоценимое значение. Многое из его наследия еще не опубликовано. В частности остались письма Топорова, их надо отыскать и опубликовать.
Думая об Адриане Митрофановиче, я невольно вспоминаю слова В. Г. Белинского о том, что умная и деятельная жизнь не может быть бесплодной. Плодами творческой жизни Топорова будут пользоваться еще многие.
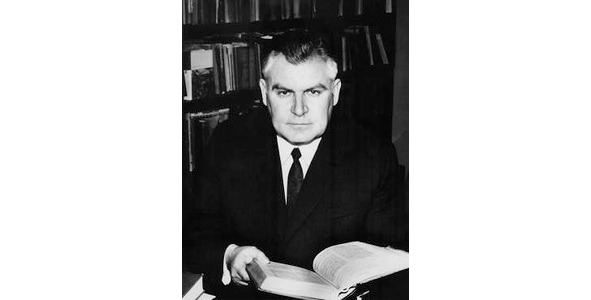
. «С каждой страницы Вашей книги так и прет, так и сияет Ваша любовь к человеку, к читателю, да и их любовь и доверие к Вам просто-таки очаровывают»
«Алексей Максимович очень Вас ценит и хочет с Вами познакомиться, чтобы Вам дать более широкое поле для продолжения Ваших занятий».
«Признаюсь: умная, искренняя критика, выражавшая непосредственные впечатления от прочитанного, удивляла меня глубиной мысли, оригинальностью и живописностью языка. Я решился придать своей работе по собиранию крестьянских отзывов систематический характер… Великое в художественной литературе потому и великое, что оно действует на большинство людей. Действует незримо, как вешняя вода под пластом снега. Люди ощущают больше, чем могут выразить».
ОСЫКОВ Б. И. ТОПОРОВ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ 34 35
Почти легендарный учитель и писатель, чьи книги восхищали Горького, Вересаева. Твардовского, Чуковского, Рубакина и вызывали живейший интерес в США, Германии, Швейцарии, Польше; тот, кто создал в смутные 1920-е годы знаменитую коммуну «Майское утро» и, наконец, тот, в честь которого земляки – первопроходцы КМА назвали экскаватор «Адриан Топоров».
Осыков Б. И. Автор фотографии неизвестен (из Интернета)
Судьба наделила Топорова ясным умом, большим сердцем, разнообразными дарованиями и изумительным долголетием – почти 93 года. Но «даровала» и полунищенское детство, батрачество. Всего два года церковноприходской школы да еще несколько месяцев семинарских учительских курсов. И все! Остальное – труд, самообразование. А он стал не только талантливым педагогом, скрипачом – даже пособие «Настольная книга скрипача» написал, стал эсперантистом – и тоже создал учебник.
А главное – он стал просветителем. Может быть, его путь – из бедности, из темноты – разбудил мечту: провести по этому пути познания и других простых крестьян. В своем «Майском утре» он не только учил, как по-новому вести хозяйство, растить урожай. Топоров наполнил жизнь односельчан духовным содержанием. Двенадцать лет каждый вечер – чтение вслух для всех, от мала до велика. Вчера еще неграмотные люди читали Гомера, Шекспира, Пушкина, Тургенева, Тютчева. Есенина…
Имя Адриана Топорова стало широко известно после полета в космос Германа Титова. Отец и мать космонавта-2, его деды и бабушки были учениками Топорова в том самом алтайском «Майском утре». И вскоре после полета Г. С. Титов сказал:
«Его имя с детства было для меня памятным – так часто говорили о нем в моем родном селе».
Самые теплые отношения связывали А. М. Топорова с земляками, особенно теплые и плодотворные – с журналистской братией.
В 1961 году на строительстве Стойленского рудника под Старым Осколом появились два необычных экскаватора. Металлолом для постройки этих машин собрали старооскольские школьники, они же придумали им имена: «Пионер Староосколья» и «Адриан Топоров». И через несколько месяцев, уже в 1962-м, Адриан Митрофанович приехал из Украины в родные места, чтобы повидаться со своим могучим железным тезкой и его хозяевами.
Мне не довелось тогда познакомиться, сблизиться с этим необыкновенным человеком, земляком. Побывать вместе с ним в его родном Стойле и в Каплине (где он учился), селе и мне столь памятном и близком со школьных лет. Не пришлось быть свидетелем и участником торжественно-ярких встреч в котловане, у огромного экскаватора, на борту которого жарко взблескивали под солнечными лучами крупные металлические буквы «Адриан Топоров».
Памятный экскаватор я смог увидеть лишь на снимках, которые мне передали друзья-фотокоры «Белгородки» после моего возвращения в родную редакцию после двух лет командировки на Балтийский флот. С тех пор снимки бережно хранятся в одной из папок личного архива.
Топоров А. М. на Стойленском руднике, Старый Оскол, 1962. Автор фотографии неизвестен. Белгородский литературный музей.
Конечно же, я крепко жалел, что не довелось познакомиться с замечательным, удивительным земляком. Но в начале 1970-х годов «затеял» я в «Белгородской правде» рубрику «Собеседник» – о книгах и книголюбах. Составил список «самых желанных» авторов-земляков, в который вошли и поэт Владимир Иванович Федоров, и кинорежиссер и актер Владимир Павлович Басов, и пушкинист Арнольд Ильич Гессен. И, конечно же, Адриан Митрофанович Топоров.
Заполучил его николаевский адрес и послал в южный украинский город пространное письмо, в котором постарался привести побольше доводов, чтобы убедить Топорова стать нашим постоянным автором. Была в письме и еще одна просьба. В то время по линии Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры составлял я сборник «Наши замечательные земляки», вот и попросил Адриана Митрофановича прислать биографические данные.
Ответ не заставил себя долго ждать. В пухлом конверте оказались и статья «Книги – мои наставники», и автобиография, и плотный лист сопроводительного письма с теплыми словами.
Статья о книгах в «Белгородской правде» всем понравилась и для нее вместо традиционной скромной «колонки» не пожалели даже четыре газетных «столбца». Три экземпляра газеты с публикацией я в тот же день отправил в Николаев. А в ответ получил довольно увесистую заказную бандероль с экземпляром вышедших в Новосибирске вторым дополненным и переработанным изданием «Крестьян о писателях». На белом форзаце книги – поразившая меня своей сердечностью надпись:
Листок письма, вложенный в книгу, был своеобразным комментарием:
Через некоторое время из Николаева пришли воспоминания А. М. Топорова о Ф. И. Шаляпине. Для «Собеседника» они не подходили, и я в тот же день передал их в самый оперативный отдел газеты – информационный. Но – увы – они и там застряли. А Адриан Митрофанович тем временем подослал еще любопытные эпизоды о знаменитых писателях, ученых и философах. «Эпизоды» я отнес сразу же ответственному секретарю и сумел добиться от него положительного ответа. Но время шло, а материалы Топорова продолжали оставаться в гранках и рукописях. И осенью 1974-го года пришло из Николаева горькое письмо:
После моих настойчивых обращений к ответ. секретарю, зам. редактора и, наконец, к самому редактору в «Белгородке» появилась довольно большая публикация «любопытных эпизодов» из жизни Л. Н. Толстого, А. П. Чехова (помогли именно эти имена). Больше, к сожалению, из присланного А. М. Топоровым не напечатали ни строчки.
А сколько интересного, доброго, полезнейшего мог подарить своим землякам Адриан Митрофанович со страниц областной газеты. Наверное, и для самого писателя благожелательное внимание редакции стало бы серьезным творческим стимулом…
Все это я понимал и тогда. Еще отчётливее понимаю сегодня. Понимаю и сожалею еще острей.
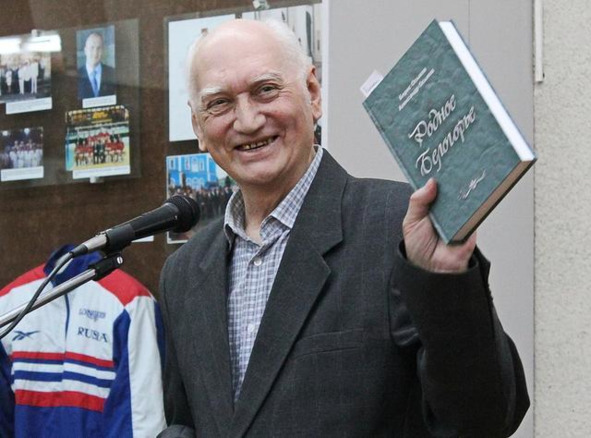

. «Борису Ивановичу Осыкову, – подавшему мне теплую дружескую руку в дни ужасных бед, которые обрушила на меня безжалостная судьба-мачеха… С любовью, уважением и благодарной памятью до последнего вздоха. А. Топоров»
. «Дорогой и добрейший Борис Иванович! Сердечно благодарю за книги „Наши замечательные земляки“… В связи с постигшими меня великими несчастьями (смерть жены и паралич у сына) я переменил квартиру. Прошу писать мне по новому адресу: УССР, г. Николаев областной, ул. Плехановская…»
«Дорогой Борис Иванович! Еще 30 июня 1974 года я послал Вам для „Белгородской правды“ 14 любопытных эпизодов из жизни ученых и философов. Вы ответили, что вопрос о напечатании их был тогда согласован с ответственным секретарем редакции. К сожалению, до сего дня они где-то „киснут“. Если их „зарезала“ редколлегия, то убедительно прошу Вас вернуть их мне. Они пойдут в Киеве. Получилось нехорошо. Зав. информацией затерял мои эпизоды о Шаляпине. У зам. реда погибла моя статья „Из тьмы – к свету“. Таким образом, три моих „покойника“ погребены в недрах газеты. Очень прошу Вас помочь мне получить обратно упомянутые материалы. Сетую: мои земляки-старооскольцы так-таки и не прислали мне фотографию здания Каплинской средней школы. Эта иллюстрация нужна мне для „Автобиографической летописи“ (900 машинописных страниц), в которой запечатлена моя 62-летняя культурно-просветительная работа… Душевно А. Топоров».
ПЕРЕСУНЬКО Т. К. ОТ ВСЕЙ ДУШИ (об автографах писателя) 36 37
В общении с людьми был он прост и прямодушен. Неискоренимо верил в то, что им нужны, как воздух, сердечные слова дружеского участия. Но вместе с тем, полагал он, необходим человеку и нелицеприятный разговор о таких сторонах его личности, которые нуждаются в некотором корректировании. Любовь к людям органично сочеталась в нем с требовательностью к ним. А. М. Топоров был убежден, что человек является в мир, чтобы одарить других лучшим, что есть в нем самом.
Пересунько Т. К., Николаев. Wikimedia Commons. Автор фотографии в источнике не указан
Свои книги дарил от чистого сердца и обязательно с автографами богатой эмоциональной палитры: от незлобливой, доброй и веселой шутки до глубокого раздумья о смысле жизни и назначении человека.
Когда знакомишься с его автографами, то диву даешься: в них предстает живая история нашей страны, становление ее культуры, штриховые наброски портретов выдающихся людей советского времени, оценка прошлого и настоящего, устремленность в будущее, идейно-нравственный и психологический мир автора и его адресатов. Да и сама биография А. М. Топорова отражается в них, как в зеркале…
Впечатления детства и юности самые сильные. От того, какая среда формировала характер человека в юности, зависит его жизнь в дальнейшем. Сохранить память о прошлом – это значит сберечь благодарность всем тем, кто в юности одаривал нас знаниями, любовью и лаской. Среди автографов А. М. Топорова встречаем надпись на втором издании книги «Крестьяне о писателях», подаренной сыну Л. П. Ешина (наставнику А. М. Топорова в юностиАндрею Леонидовичу 28 марта 1964 г.: . – И. Т.)
…Отсылая своих «Крестьян», он восхищается меткостью и выразительностью народного слова и высоко ценит в высказываниях коммунаров о художественных произведениях самоцветную народную речь.
В топоровских автографах явственно ощутимо дыхание самой народной истории, сохранена память о выдающихся эпохальных исторических событиях… Он дарит «Крестьян» бывшему партизану в Сибири И. М. Дрожжину, селькорам 20-х годов, соратникам в борьбе с «властью тьмы» в сибирской деревне… Он дарит книги «Крестьяне о писателях» и «Я – учитель» бывшим коммунарам Г. Н. Блинову, семьям Бочаровых, Зайцевых, Титовых. Шитиковых и др. 1 июля 1973 г. А. М. Топоров отсылает «Крестьян» А. П. Бочаровой в Щекино. На книге надпись:
…Среди слагаемых богатого духовного мира писателя, пожалуй, в первую очередь надо назвать его редчайшую доброту, необыкновенную душевность.
А. М. Топоров считал жизнь величайшим подарком, который дает человеку природа. Достойно прожить ее – в этом смысл бытия. Вот почему у него было стойкое неприятие тех, кто унижает человеческое достоинство антиобщественными поступками. Его до глубины души взволновал героизм Васи Рыбкина, пострадавшего в неравной схватке с бандитами. 5 мая 1964 года он посылает Васе 2-е издание «Крестьян» с трогательной надписью:
В этом он весь – Адриан Митрофанович Топоров, спешивший протянуть руку помощи тем, кому было трудно, больно, кто страдал, переживал глубокое личное горе…
Вдовья судьба жен известных советских писателей Б. Горбатова. А. Новикова-Прибоя, А. Неверова, В. Зазубрина, Г. Вяткина. Ф. Березовского, художника С. Надольского, с которыми А. М. Топоров переписывался, постоянно волновала его. Пелагее Андреевне Неверовой, вдове советского писателя, автора знаменитой повести «Ташкент – город хлебный», он выслал 3 мая 1964 года книгу «Крестьяне о писателях» со словами:
90-летний старик, познавший в своей жизни не только радость и счастье творца, но и горечь непонимания его труда некоторыми дубоносыми критиками, утрату родных и близких, однако не ожесточился против мира. Напротив, его душа была благорасположена к людям.
Среди адресатов А. М. Топорова, которым он дарил свои книги, люди самых разнообразных профессий. Это – партийные работники, ученые, учителя, врачи, библиотекари, журналисты, писатели.
Автографы А. М. Топорова получили право на жизнь не только, так сказать, вширь (география их распространения), но и в глубь (временные рамки). Три времени: прошлое, настоящее и будущее сплелись в них, образовав широкую панораму жизни страны в течение почти столетия. Из среды сибирских безграмотных и полуграмотных «чалдонов» вышли новые люди советской эпохи. Их сыновья стали героями космоса. Сын учеников А. М. Топорова Герман Степанович Титов, космонавт-2, назвал Адриана Митрофановича своим Теплота, исключительная задушевность звучат в автографе писателя, обращенном к родителям космонавта 10 мая 1967 года: «духовным дедом».
Космонавту-2, написавшему предисловие к книге «Я – учитель», он оставит на ней автограф:
С уважением, пониманием и любовью относился А. М. Топоров к родственникам, друзьям, близким выдающихся русских ученых, внесших неоценимый вклад в покорение космоса. Так, внучке К. Э. Циолковского В. В. Костиной-Циолковской 17 октября 1967 г. он подписывает «Крестьян» с такой дарственной надписью:
…Сын русского народа, он волею судьбы около 40 лет прожил в Николаеве, на Украине, которую считал своей второй родиной. У него было, так сказать, интернациональное мышление и чувствование. Ученому из АН УССР А. М. Кинько 20 апреля 1968 г. А. М. Топоров посылает «Крестьян», сопроводив их словами:
Все, кто близко знали А. М. Топорова, общались с ним, помнят, сколь открыт он был к добру. А книги свои он всегда дарил людям от всей души, от чистого сердца, которому суждено было и после его смерти освещать путь к истине, добру и справедливости.

«Андрюше и Зое Семеновне, моим самым дорогим друзьям юности, потомкам славной, незабвенной семьи Ешиных – моей альма матэр, воспитавшей во мне неистребимую любовь к знанию, искусству и живому простонародному слову»…
«Самому проникновенному критику художественной литературы, незабвенной Анне Прохоровне Бочаровой – с чувством неизменной благодарности. А. М. Топоров».
«Милый Вася Рыбкин! Вы совершили подвиг, обессмертивший Ваше имя. У меня не хватает слов, чтобы выразить кипящую злобу против извергов, причинивших Вам тяжелое увечье. Я изумлен Вашим лучезарным оптимизмом, с которым Вы стоически преодолеваете свои несказанные страдания, работаете, учитесь, да еще вдохновляете на труды, учебу и подвиги юных пионеров. Ваш образ внушает людям самые светлые надежды. Всеми фибрами души желаю вам скорейшего и полного выздоровление! В знак моего преклонения перед Вашим героизмом примите на память эту книгу. Душевно с Вами А. Топоров».
«…Преподношу в дар эту книгу с чувством радости и глубокого уважения к Вам и в знак моего благоговейного отношения к священной памяти А. С. Неверова, который был в моей аудитории взрослых коммунаров и в детской школе истинным властителем дум…»
«Степа и Сашенька! Вы – первопричина всех причин, вследствие коих „Крестьяне“ обрели вторую жизнь в 60-х годах. И потому – да будут благословенны ваши святые имена во веки веков!..».
. «Герману Степановичу, воскресившему меня для второй жизни и открывшему „зеленую улицу“ сему простодушному „опусу“, – благодарный до последнего вздоха А. Топоров»
. «Вере Вениаминовне Костиной-Циолковской – славной внучке великого деда от „духовного деда“ космонавта-2 и автора этой книги – на память о радостной встрече в Николаеве»

