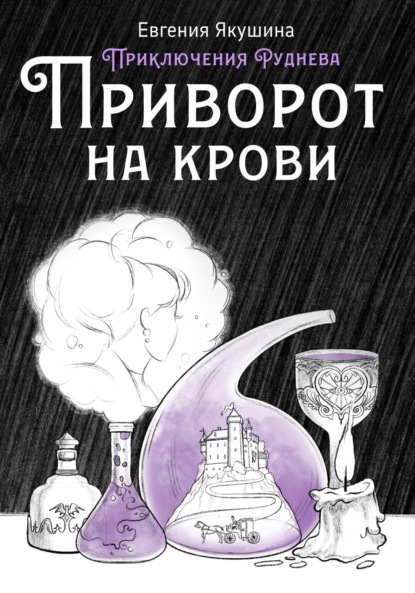Полная версия
Яшмовый Ульгень. За седьмой печатью. Приключения Руднева
Внешность у Белецкого тоже ничем не выдавала этнических корней: ни светлых волос, ни голубых глаз, ни бюргерской полноты. Он был высок ростом, узок в кости, жилист, и, при всей своей вечной худобе, отличался недюжинной силой в сочетании с изрядной ловкостью движений. Лицо его вряд ли можно было назвать красивым, было оно худым и даже каким-то аскетичным, но привлекало четкостью и правильностью черт: острые скулы, тонкий нос, резко очерченный подбородок, тонкогубый рот, будто прорезанный лезвием. Глубоко посаженные зеленоватые глаза смотрели на мир цепко и внимательно. Он чисто брился, не нося ни усов, ни бороды, оставляя лишь небольшие, гладкие, идеальной формы бакенбарды. Волосы темно-русого цвета он коротко стриг и гладко зачесывал назад. Это расходилось с модными веяниями, но выгодно подчеркивало его высокий чистый лоб. Красавцем себя Белецкий не считал, но в целом на внешность свою не жаловался, тем более что её незаурядность подтверждал неизменный интерес к его персоне со стороны слабого пола.
Побродив по саду в обществе Софьи Николаевны чуть более часа, Белецкий решил, что пора-таки будить Митеньку. В это лето семнадцатилетний Руднев-младший взял в привычку проводить ночи за чтением или рисованием, засыпать лишь под утро и просыпаться к обеду. Этакий богемный режим Белецкому категорически не нравился, и он всячески препятствовал установившемуся распорядку дня своего подопечного.
Митенька к тому времени, однако, уже не спал. Он лежал, раскинувшись на мягкой постели, и обдумывал очень серьезный вопрос, не дававший ему покоя с того момента, как директор гимназии вручил ему аттестат и похвальный лист за отличную успеваемость и примерное поведение.
Обучение в гимназии Митенька начал с четвертого класса, а начальный курс первых трех классов прошёл с домашними учителями. Волнуясь за здоровье сына, Александра Михайловна и в четвертый-то класс не хотела его отправлять, но Белецкий настоял на том, что мальчику нужны дисциплина и общество себе подобных. А главное, говорил он, Митеньке необходимо в полной мере вкусить все радости и горести отрочества, ибо без этого опыта невозможно полноценное и гармоничное становление мужчины. Взрастить же из мальчика настоящего мужчину Белецкий почитал своим долгом.
Когда Митеньке исполнилось десять, Белецкий приступил к закалке и физическому укреплению слабого здоровьем отрока. Постепенно приучал он мальчика к гимнастике и благородным мужским занятиям: верховой езде, фехтованию, стрельбе, а после принялся обучать его приемам борьбы без оружия, разработанным им самим на основе стиля, некогда перенятого у мальчишки-налетчика, и диковинных единоборств, почерпанных во время Алтайской экспедиции. Летом Белецкий водил мальчика в походы с ночёвкой под открытым небом, а зимой выгонял босиком на снег.
К тринадцати годам Митенька в полной мере укрепился и телом, и духом, хотя и остался таким же мечтательным, застенчивым и сосредоточенным на своем внутреннем мире мальчиком. Всем иным занятиям, как и ранее, он предпочитал чтение и рисование. А из всех мужских искусств ему были интересны разве что фехтование и верховая езда, поскольку Митенька грезил о рыцарях и героях войны 1812 года.
В гимназию Митенька поступил легко и учился блестяще, однако друзей, как, впрочем, и врагов, среди одноклассников не заимел, поддерживая со всеми ровные и немного отстранённые отношения.
Оно и вообще, отношение мальчика к жизни казалось несколько безучастным, будто бы смотрел он на этот мир и его обитателей через тюлевую завесу, не желая подходить ближе и остерегаясь касаться любого предмета. Но впечатление это было обманчивым. Подобно своей матери, Митенька скрывал под своей внешней туманной оболочкой замечательную душевную силу. За мечтательностью и нелюдимостью прятались неуемная любознательность, удивительная проницательность, немалая воля и страстная романтичность.
Митенька и внешне больше походил на мать, чем на покойного отца. Среднего роста, даже чуть ниже, был он хрупок сложением, а движения его были легки и изящны. Лицом Митенька был невероятно красив, словно античный герой. Точеные черты, обыкновенно спокойные и невозмутимые, обрамляли слегка волнистые волосы цвета холодного золота. Глаза Митеньки, как и глаза Александры Михайловны, были великолепно большие, чуть более серые, чем у матери, с тем же невероятным туманным взглядом, которой в один момент мог стать удивительно пронзительным, проникающим в самую душу, и гипнотически завораживающим.
Сам Митенька о своей красоте не подозревал и, более того, считал свою внешность истинной напастью, из-за которой ему вечно выпадало играть девиц в спектаклях театрального гимназического кружка.
Не умел Митенька пока и ценить свои таланты. И это неумение стало причиной тревог, обуревавших его с момента окончания гимназии.
Получив прекрасное среднее образование, Митенька столкнулся с вопросом, что делать дальше. Нужно было как-то выбрать себе жизненный путь и выбрать непременно правильно. Само собой, путь этот должен был быть тернист и вести к славе. Выбрать следовало что-то такое, что было бы направлено на благо России, и в чём Митенька непременно бы оказался лучшим и достойнейшим из всех. Однако ни в чём таком он не находил в себе особых задатков.
Можно было пойти по стопам отца, но это значило бы обречь себя на вечное пребывание в тени великого человека. Можно было бы выбрать военную службу, но маменька наверняка не перенесёт его героическую гибель на поле брани. А если без героической гибели, то и смысла не было надевать воинский мундир. Можно было бы стать инженером-изобретателем, но всё значительное – электричество, двигатель внутреннего сгорания и даже аэроплан – уже изобрели.
Оставался, конечно, вариант стать знаменитым художником, но и тут не все было ладно. В России более всего ценились пейзажи, парадные портреты, сцены из жизни простого народа или монументальные полотна о древних трагедиях и исторических баталиях. Ничего из этого Митеньке рисовать не хотелось. А то, к чему лежало сердце, ни признания, ни тем более славы обещать не могло. Митенька бредил прерафаэлитами, течением в России непопулярным и призираемым за своё отступничество от высоких канонов.
Про прерафаэлитов он узнал от учителя рисования, господина Вайстока, хмурого англичанина, явно недолюбливавшего всех гимназистов поголовно. Что заставило Вайстока покинуть Туманный Альбион и, тем паче, пойти преподавать нерадивым отрокам, оставалось для всех загадкой. Однако учителем он был замечательным, а в Митеньке, который, похоже, не нравился ему меньше остальных мальчиков, разглядел талант. Однажды он оставил его после урока и показал альбом с чудесными литографиями. Он рассказал, что это новое течение, очень модное в Британии среди молодых людей, и предложил Митеньке попробовать в нём свои силы. Митенька был сражён. Оказывается, сюжетом картины могли быть рыцари и прекрасные дамы, а не только греческие скульптуры, натюрморты с яблоками да среднерусские пейзажи!
В день выпуска Вайсток подарил своему ученику небольшую репродукцию картины сэра Эдварда Бёрн-Джонса «Сэр Ланселот у часовни святого Грааля», и теперь Митенька всюду возил её с собой и вешал на самое видное место.
Картина эта не просто поражала юношу своей художественной ценностью. Спящий рыцарь в серебристо-белых латах казался ему идеальным героем, эталоном благородства и жертвенности, к которому ему, Митеньке Рудневу, непременно надо стремиться. Так вот и дОлжно жить, думал молодой человек, обязательно дать кому-нибудь или чему-нибудь клятву верности и отправиться на поиски чудесной реликвии, ну, или чего-то в этом роде, способного даровать мир и счастье всем людям до единого, а между делом еще и спасать слабых, лучше, конечно, прекрасных девиц или, в крайнем случае, стариков и детей.
В тот момент, когда мысли доходили до спасения девиц, Митеньке в последнее время почему-то сразу представлялась дочь предводителя уездного дворянства Аннушка Бородина, хотя она и мало походила на томных и бледных дев с картин английских романтиков. Аннушка была веселой и румяной, с бойким звонким голосом и заливистым смехом. От мыслей о ней на душе у Митеньки становилось светло и радостно. Вот и сейчас, вспомнив об Аннушке, он позабыл о своих душевных терзаниях и улыбнулся.
В этот момент в дверь настойчиво постучали, и, не дожидаясь ответа, в спальню стремительно вошёл Белецкий. Суровый воспитатель хмуро сдвинул тонкие брови и скрестил руки на груди.
Митенька забарахтался среди пуховых подушек, не сразу изловчившись выбраться из них и сесть.
– Доброе утро, Белецкий! – смущенно поприветствовал он наставника, ожидая очередного нагоняя за непростительно долгое пребывание в постели.
– Утро? Утро, Дмитрий Николаевич, кончилось часа четыре назад, – ледяным тоном отчеканил Белецкий. – Я снова вынужден обратить ваше внимание, что благородному человеку не пристало вставать позже шести утра.
Митенька помалкивал, терпеливо снося отповедь. Он знал, что никакие его оправдания приняты не будут, а лишь спровоцируют более жесткие и саркастические замечания.
– Извольте одеться, сударь. Мы идем на реку плавать, – Белецкий положил перед Митенькой рубашку и английские спортивные брюки.
По тому, что и сам наставник был без сюртука, а лишь в одной рубашке с жилетом, Митенька понял, что рассчитывать на завтрак до ненавистного ему купания не приходится. А то, что на ногах у Белецкого были спортивные туфли, предвещало неизбежность пробежки до реки.
Постоянные ежедневные тренировки в любое время года и при любой погоде превратили Митеньку в сильного и спортивного молодого человека, но полюбить их он так и не смог. Что касалось купания в реке, то тут дело было даже не в плавании или холодной воде. Митеньке было ужасно стыдно, но он страшно боялся пиявок, которыми изобиловало илистое дно Пахры. Даже не то, чтобы именно боялся, скорее испытывал к ним сильнейшее брезгливое отвращение. Однажды такая дрянь присосалась к его ноге, и он заметил это, только выйдя на берег. Митеньку до сих пор передергивало от воспоминания о том, как он сидел на траве и тихо подвывал, а неустрашимый Белецкий снимал с него распухшего кровососа и после прижигал маленькую, но сильно кровоточащую ранку.
Митенька принялся обреченно натягивать рубашку, Белецкий никогда не помогал ему с одеванием, разве что с подвязыванием галстука. Он вообще был строг со своим подопечным, хотя и почтителен. С самого начала Белецкий обращался к Митеньке исключительно на «вы» и по имени и отчеству, а тот с детских лет привык называть наставника на «ты», хотя более ни с кем из взрослых себе этого не позволял. Впрочем, Белецкий был не таким уж и взрослым, с Митенькой их разделяло всего десять лет.
– А когда гости приедут? – поинтересовался Митенька, запихивая ноги в туфли. – Матушка говорила, сегодня к вечеру.
– Ну, раз Александра Михайловна так говорила, так оно и будет. Тем больше у вас причин поторапливаться. До вечера еще многое нужно успеть. Оделись? Тогда идёмте.
Митенька вздохнул и поплелся за своим мучителем.
Глава 3.
Ещё при жизни Николая Львовича была заведена традиция во время летних выездов собирать в Милюково интересное общество. К Рудневым приезжали не только друзья и соратники Николая Львовича, но и другие государственные мужи, ученые и писатели, которых привлекала прогрессивная и патриотичная атмосфера этих собраний, а также гостеприимство Александры Михайловны. После гибели супруга в память о нём Руднева продолжила эту традицию. Общество собиралась уже не столь обширное, но не менее приятное.
Костяком этих собраний и их неизменным участником стал сподвижник Николая Львовича, член совета Русского Императорского Географического Общества, действительный статский советник Константин Павлович Невольский. Он был не просто товарищем и единомышленником покойного Руднева, но и старым другом семьи. Все эти годы после трагической экспедиции он поддерживал Александру Михайловну и принимал всяческое участие в судьбе Софи и Митеньки.
Константин Павлович, имевший на службе репутацию человека сурового и бескомпромиссного, был с Рудневыми этаким добрым дядюшкой: выслушивал, давал добрые советы и утешал в горестях. Бывал он в их доме часто. Рассказывал о новых проектах Общества, рассуждал о политике, знакомил Рудневых с интересными людьми.
Вот и в этот раз Невольский обещался представить на Милюковское собрание двух новых гостей: публициста Григория Дементьевича Борэ и своего протеже, подающего большие надежды молодого географа Платона Юрьевича Сёмина.
Помимо вышеперечисленных персон в Милюково ожидались еще трое: профессор Московского Университета историк Федор Федорович Левицкий, тоже старый товарищ Николая Львовича, врач семьи Рудневых, давно перекочевавший в статус друга, Рихард Яковлевич Штольц и жених Софьи Николаевны Аркадий Петрович Зорин.
Прибытие гостей ожидалось к вечеру, на который был запланирован парадный ужин.
С некоторых пор Митеньке эти собрания разонравились. Разговоры ему казались скучными, а больше всего раздражало отношение к нему гостей, их покровительственный тон и нарочито преувеличенное внимание к его мнению. Единственными, кто воспринимал Митеньку всерьез и обращался с ним естественно, были Константин Павлович и Рихард Яковлевич.
Сегодняшнего собрания Митенька особенно страшился, так как предвидел неизбежный разговор о его дальнейших планах на жизнь, которые он ни с кем обсуждать не хотел, особенно потому, что планов-то у него как раз и не было.
К вечеру выяснилось, что несносный Белецкий приготовил ему ещё одну неприятность: в гардеробной Митенька обнаружил для себя новый визитный английский костюм, в котором, по непререкаемому мнению наставника, должен был явиться к ужину.
– А в чём же вы, Дмитрий Николаевич, собирались к людям выйти? В мундире гимназическом? Так вы уже больше не гимназист, – безапелляционно заявил Белецкий на неубедительные возражения Митеньки. – Вы взрослый человек, Дмитрий Николаевич, извольте одеваться да вести себя, как пристало взрослому благородному человеку.
Пристыженный Митенька подчинился. Удивительно, подумал он, насколько платье влияет на наше душевное состояние. Как же хорошо было носить гимназический мундир! Надел его, и все в этом мире вставало на свои места, все делалось просто и понятно: вот он, Митенька Руднев, лучший в классе, гордость матушки. И нечего к этому добавить, и нечего убавить. А что теперь? Солидное взрослое платье, абсолютно ничего не говорящее о его обладателе, только лишь вызывающее вопросы: кто этот молодой человек, что он из себя представляет, чем в жизни полезен?
Находясь в полном раздрае чувств, Митенька безропотно позволил Белецкому поправить себе воротничок, поддернуть манжеты и дважды перевязать галстук.
– Schön (нем. Прекрасно)! – заключил воспитатель.
Сам Белецкий, как всегда, выглядел безукоризненно. На нём был простой строгий костюм темно-серого цвета, который сидел как влитой, без единой складочки. Чопорный туалет оживлял лишь шелковый светло-лиловый галстук. У Белецкого вообще был редкий талант всегда выглядеть так, будто платье его было только что исключительно отутюжено, а рубашка отбелена и накрахмалена. В своей безукоризненности он напоминал английскую фарфоровую статуэтку.
За ужином шли разговоры на темы для Митеньки абсолютно безопасные: говорили об общих знакомых, о планах Географического Общества, о вышедшей в прошлом месяце в авторитетном научном журнале статье профессора Левицкого. Обсудили уездные новости и предстоящую свадьбу Софьи Николаевны.
Когда общество переходило в гостиную, где должны были подать кофе и коньяк, Митенька попытался потихоньку улизнуть, но Белецкий пригвоздил его строгим взглядом и незаметно для остальных отрицательно качнул головой: «Nein!». Пришлось остаться и забиться в самый дальний угол гостиной. Уж это-то запретить себе Митенька не позволил.
Разговоры стали интереснее. По негласному, но строго заведенному правилу политику и религию на собраниях у Рудневых не обсуждали, однако часто вели жаркие дискуссии по вопросам морали и социального развития. В этот раз тему задал Платон Юрьевич Сёмин.
Ему было немного за тридцать, хотя выглядел он старше из-за заметной сутулости и ранней залысины. Натурой географ был холеричной, на месте не мог усидеть и пары минут, постоянно что-то крутил в руках, а при разговоре помогал себя бурной жестикуляцией.
Сёмин поинтересовался, приходилось ли кому читать произведения Фридриха Ницше, и оказалось, что таковых, помимо него, четверо: Левицкий, Зорин, Шольц и Борэ.
– Что вы думаете, господа, об идее сверхчеловека, высказанной Ницше? – спросил он, перед тем кратко изложив непосвященным общую суть.
– О! Эта теория сродни Дарвиновской! – пылко воскликнул Зорин.
– Вы находите? – скептически скривился доктор Шольц.
– Да, несомненно! Эволюция – естественный путь развития любых организмов в их физическом проявлении. Поскольку же человеческий дух неотделим от физического естества, то он также будет эволюционировать, что, несомненно, выведет его на новый уровень. Люди с таким развитием духа и разума, конечно, будут несравненно выше человека обыкновенного.
– В каком смысле выше? – поинтересовался Борэ, мужчина лет сорока, плотный, приземистый, с желчным лицом, одетый в броский клетчатый костюм по американской моде, при виде которого Белецкий не удержался от брезгливой гримасы. – Значит ли это, любезный Аркадий Петрович, что у сверхчеловека будут какие-то свои, отличающиеся от всех остальных, правила и законы?
– Разумеется, – согласился Зорин, – коль скоро это будет иной человек, то и законы, и правила у него будут иными.
– И мораль и него тоже будет своя? – продолжал наседать Борэ.
– Ну конечно!
– А кто же будет устанавливать эту мораль и законы? И кто гарантирует, что правила сверхчеловека станут учитывать интересы обычных низших представителей рода человеческого?
– Это будет заложено в самой природе сверхчеловека! – уверено произнес Зорин.
Его поддержал Сёмин:
– Конечно, уважаемый Григорий Дементьевич, так оно и есть! Если вы внимательно читали Ницше, то должны помнить…
– Да что мне Ницше! – перебил его Борэ. – Сверхчеловек, пиши о нём, не пиши, есть аллегория стремления одного индивидуума доминировать над другим. Это желание было хорошо известно и до доктора Ницше.
– Под «доминировать», вы, конечно, понимаете насилие? – вступил в беседу доктор Шольц. Он выглядел так, как и положено почтенному доктору: уже не молод, но подтянут, степенные манеры и спокойная немногословная речь.
– А вы знаете другие способы доминирования?
– Я согласен, что в сверхчеловеке Ницше нет ничего нового и оригинального, – безапелляционно, в менторской манере поддержал Борэ профессор Левицкий. Ему было около шестидесяти, высокий, немного тучный, с полнокровным лицом, пышными седыми бакенбардами и низко нависшими густыми бровями, из-под которых посверкивали чрезвычайно строгие глаза. – Вся история человечества – бесконечная вереница примеров того, как некая личность, возомнив себя в праве и в силах подчинять себе других, возносится или пытается вознестись выше посредственностей и толпы. Правда, пока все эти примеры заканчиваются крахом этих сверхличностей.
– Но это пока, – не унимался Борэ. – А если предположить, что в руках сверхличности окажутся все достижения технического прогресса, включая оружие. В этом случае его шансы против посредственностей и толпы, как вы выразились, господин профессор, окажутся несравненно выше. Что же в этом случае удержит его от гегемонии?
– Главная ошибка ваших рассуждений в том, что вы не учитываете величие духа, которого достигнет сверхчеловек, – снова кинулся в бой Сёмин.
– А с чего это он его должен достичь? – поинтересовался доктор Шольц, его этот спор, кажется, забавлял.
– В этом цель эволюции духа! – убежденно заявил Зорин.
– Почему вы в этом так уверены? – задал вопрос доктор, разглядывая что-то на донышке своей чашки. – Вы, молодой человек, считает, что эволюция – это переход от худших качеств к лучшим. Да только все не совсем так. «Лучшее» и «худшее» в контексте эволюции есть ни что иное, как «целесообразное» и «нецелесообразное». Вот, например, акула. В ходе эволюции она отрастила себе несколько рядов острейших зубов, поскольку это было лучшим для охоты, и стала опаснейшим хищником. Она в терминах Ницше настоящая сверхрыба. Однако её мораль, если так можно выразиться, далека от высоких идеалов.
– Вы говорите о животном, – Зорин не желал сдавать их с Сёминым позиций. – Человек же – дело другое! Вот скажите, Федор Федорович, разве жившие в пещерах первобытные люди не были более жестокими и безнравственными, чем люди средних веков? И разве мы, современные люди, не цивилизованнее средневековых варваров? Наши законы. Наша мораль. Они ориентированы на общественное благо, пусть даже они и не идеальны.
– Общество, конечно, становится цивилизованнее, – подтвердил Левицкий и тут же возразил, – чего об отдельном человеке сказать нельзя.
– Полностью согласен с вами, Федор Федорович, – снова взвился Борэ. – Общество выстраивает свои законы и сочиняет правила морали именно для того, чтобы держать в узде человеческое скотство, простите, дамы!
– Но ведь законы и мораль не существуют в отрыве от человека, – продолжал настаивать на своем Зорин. – Человек – вот носитель всех правил! Да, он создает их, но он же является сосудом, хранящем их. Мы не убиваем не потому, что это запрещено законом, религией и моралью, а в силу своего внутреннего понимания. Мы физически чувствуем, что убийство – это недопустимое злодейство, и не совершаем его.
– Ну, хорошо. Если я возражу вам, что на каторге вы встретили бы множество таких, кому физическое чувство не воспрепятствовало убийству? – не унимался Борэ.
– Как бы много ни было этих людей, они лишь малый процент от всего человечества.
– Допустим. А что вы скажете о воинах, которые убивают врага в бою?
– Знал, что вы это спросите! – Зорин торжествующе переглянулся с Сёминым. – Война заставляет идти человека против своей природы. Солдаты и офицеры не хотят убивать, а лишь вынуждены. Придёт время, и сила гуманистической человеческой природы возобладает, тогда войны сами собой прекратятся. Никто не будет убивать другого. Люди научатся договариваться.
– Ваши слова да Богу в уши, – проворчал себе по нос Левицкий.
– Так, по-вашему, каждое новое поколение более высоконравственнее и гуманнее предыдущего? – спросил Борэ.
– Несомненно!
– Интересно, – протянул публицист и вдруг вперил колючий взгляд в Митеньку. – А вы что на этот счёт думаете, Дмитрий Николаевич? Вы человек молодой, можно сказать, юный. Что удержит сверхчеловека от сверхзлодейств?
Митенька растерялся. Разговор его занимал, но участвовать в нём он, по своему обыкновению, желания не имел. Юноша пробежал взглядом по лицам, ища поддержки. Встретился глазами с матерью и сестрой, мило улыбающимся своему обожаемому Митеньке. Взглянул на Белецкого, тот едва заметно ободряющее кивнул.
– Я думаю, – неуверенно начал он, – я думаю, что сверхчеловек не просто так на пустом месте возникнет.
Его внимательно слушали. Он прочистил горло и продолжил бойчее.
– Сверхчеловек сможет стать таковым, если будет себя развивать. Развивать во всех отношениях. В частности, он будет много книг читать. И непременно хороших! А в них герои всегда честны и благородны. Для будущего сверхчеловека такие герои станут нравственным ориентиром. Стало быть, сверхчеловек так же будет честен и благороден, как всякий герой, а значит, любые низменные и жестокие поступки будут для него недопустимы.
– Браво, юноша! – воскликнул молчавший до того времени Невольский. – Отлично сказано! Вот вам мнение подрастающего поколения! Если все будут читать хорошие книги, мир станет лучше! Тут я согласен с нашим юным другом. И, кстати, о книгах. Ницше я вашего не читал, но как понял, он рассуждает о сверхчеловеке, так сказать, в философски-иносказательном смысле, а я вот тут думаю написать про реальных сверхлюдей.
Общество загудело, а Константин Павлович держал драматическую паузу. Получалось у него это очень даже величественно.
Невольский являлся человеком исключительно благородной внешности и осанки. Хотя возрастом он был чуть старше пятидесяти, выглядел на зависть некоторым сорокапятилетним, был всегда собран и подтянут. Лицо его было обычно спокойным, но властным.
– Константин Павлович, не томите же! – воскликнула хозяйка дома. – Расскажите! Мы заинтригованы!
Невольский церемонно поклонился Александре Михайловне и Софье Николаевне. Дамы обычно не принимали участия в дискуссиях, но недвусмысленно обозначали мужчинам наиболее интересные для себя темы.
– Извольте, любезнейшая Александра Михайловна! За время моей работы при картографическом ведомстве, особенно совместно с Николаем Львовичем, царствие ему небесное, я собрал много материала о шаманах-ойротах и о Беловодье. Это место вроде их языческого рая, но, чтобы попасть туда, нужно быть не праведником, а, скорее, сверхпросветленной личностью, вроде вашего сверхчеловека.