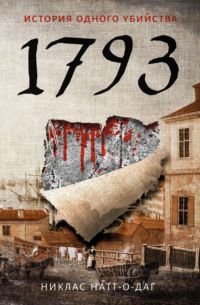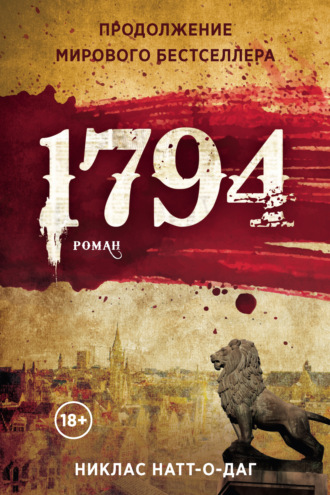
Полная версия
1794

Никлас Натт-о-Даг
1794
Niklas Natt och Dag
1794
© Niklas Natt och Dag, 2019. Published by agreement with Salomonsson Agency
© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
* * *Лица, действующие и упоминаемые в романе «1794»
Жан Мишель Кардель, попросту Микель, унтер-офицер артиллерии. Списан с флота после Роченсальмского сражения, в котором потерял руку. Устроился пальтом, рядовым полиции нравов, – работа, выполнять которую ему не позволяет совесть и доброе сердце; предпочитает подрабатывать вышибалой в кабаках.
Сесил Винге – бывший юрист, до прошлого года нештатный сотрудник полиции, умер от чахотки.
Анна Стина Кнапп – разносчица фруктов в предместьях Мария и Катарина, потом узница Прядильного дома, откуда ей удалось бежать. С зимы 1793 года работает в кабаке «Мартышка». Живет под именем умершей дочери хозяина кабака: Ловисы Ульрики Бликс.
Исак Райнхольд Блум – секретарь полицейского управления, поэт, ученик аф Леопольда, чье влияние очень заметно в его стихах.
Юхан Кристофер Бликс – ученик фельдшера из Карлскруны; перед тем как покончить жизнь самоубийством, сочетался фиктивным браком с Анной Стиной Кнапп и дал ей свое имя.
Петтер Петтерссон – старший надзиратель в Прядильном доме.
Юнатан Лёф – пальт, надзиратель в Прядильном доме.
Дюлитц – беженец из Польши; торговец живым товаром.
Густав III — Божьей милостью король шведов, йотов и венедов; убит на балу в опере в марте 1792 года.
Густав Адольф – единственный сын Густава III, формально король, но до сентября 1794 года, когда он достигнет совершеннолетия, страной от его имени управляли другие.
Герцог Карл – младший брат короля Густава, опекун несовершеннолетнего короля. Любит пользоваться преимуществами власти, но весьма неохотно несет ее бремя.
Густаф Адольф Ройтерхольм – барон, пользуясь неограниченным доверием герцога Карла, фактически управляет королевством. Враг убитого короля. Главная забота – как можно быстрее стереть следы правления Густава III.
Густаф Мориц Армфельт – фаворит Густава III, последняя надежда густавианцев: после раскрытия его заговора против регента вынужден бежать из страны.
Магдалена Руденшёльд – фрейлина двора, когда-то ее домогался герцог Карл. Любовница Густафа Морица Армфельта, арестована за участие в заговоре.
Карл Тулипан, по прозвищу Тюльпан, – владелец кабака «Мартышка»: охотно признал в Анне Стине Кнапп свою умершую дочь, по которой очень тосковал.
Магнус Ульхольм – полицеймейстер Стокгольма с декабря 1793 года, когда сменил сосланного в Вестерботтен Норлина; известен тем, что разграбил так называемую «вдовью кассу» церкви. Преданный и добровольный пес регентского режима.
Карл Вильгельм Моде́ – гофмаршал, управляющий королевского двора, один из влиятельнейших людей королевства; предан барону Ройтерхольму.
Мастер Эрик – зловещее прозвище плетки, которой старший надсмотрщик Петтер Петтерссон избивает узниц Прядильного дома.
Часть первая. Кладбище живых
Зима 1794
1
Кончается январь – первый месяц нового, тысяча семьсот девяносто четвертого года.
С утра меня разбудили, велели одеться и выпроводили из палаты: пора выкурить спертый воздух можжевеловым дымом и опрыскать пол прокисшим вином. Сказали, лучшая защита от вредоносных миазмов.
Я неохотно натянул брюки и надел пальто – Господи… как на вешалке. Плечи настолько похудели, что вшитый рукав свисает на несколько дюймов. Спустился по лестнице, впервые за несколько недель вышел во двор и оцепенел.
Роскошное снежное царство. А в моем-то узком окне виден лишь жалкий его лоскуток. Листья давным-давно опали, но зима с лихвой возместила нанесенный ущерб. Свежевыпавший снег одел голые ветви в поистине королевские наряды. Белоснежные мантии деревьев задрапировали землю, насколько хватает глаз. Капризное зимнее солнце не признает никаких других цветов, кроме белого, белого и еще раз белого. Я зажмурился, но и этого оказалось мало. Пришлось прикрыть глаза ладонями.
Больные бродили по двору, чертыхаясь на чем свет стоит, – январскому холоду легко преодолеть жалкую оборону ветхих больничных одежек. Правда, ноги, хоть и замерзшие, все же сохраняют достаточно тепла – а жаль. Потому что набившийся в башмаки снег немедленно тает и превращается в ледяную воду.
Мне не хотелось вступать в разговоры, и я пошел к морю. У берегов лед встал и успел покрыться толстым слоем снега. Открытая вода угадывается самое малое в километре от берега. Искрящийся, без всякого намека на присутствие человека наст обещал желанное одиночество. Ни единого следа.
Морозный воздух обжигает щеки, но солнце все же пригревает – и я решился выйти на лед. Особого мужества не требовалось: у берега залив наверняка промерз до самого дна, как лужи на суше.
По левую руку – неровные желтые зубы в гигантской челюсти Корабельной набережной, опасно заостряющиеся, воткнутые в беззащитное январское небо шпили церквей, розоватая грозная туша королевского дворца на Дворцовом взвозе. Я отвернулся и посмотрел на берег. Лучше не привлекать внимания этого задремавшего хищного гиганта. Открылось ущелье, которое жители города наверняка не замечают: его видно только с моря, с проплывающих кораблей. Или можно, если на дворе лето, заплыть, причем довольно далеко. А зимой – еще проще. Сделать как я: выйти на лед. И сразу это длинное ущелье открывается – от Данвика к Хаммарбю.
Впрочем, ущелье – неверное слово. Правильнее назвать его оврагом.
Город словно отвернулся от Данвика. Не только город – все живое отвернулось от Данвика. Даже само течение времени обошло Данвик стороной. Сутки здесь совсем иные: ночи длиннее, дни короче. Две скалы, одна с севера, другая с юга, укорачивают и без того короткий путь дневного светила.
Мало кто ложится в госпиталь по своей воле – только те, для кого родственники не видят другого выхода. Сыновья и дочери готовят места для своих стариков – им важно знать, что те находятся в безопасности и о них есть кому позаботиться. Но времени навещать родителей нет почти никогда. Старики понемногу впадают в детство и незаметно исчезают.
Чуть подальше, в Финнбуде, – скорбный дом. Больница для умалишенных. Отсюда я насчитал семь этажей, пристроенных сверху каскадом к уродливому грязно-желтому зданию. У каждого этажа отдельный фундамент, отчего все вместе напоминает лестницу для великанов. Эта больница – постоянный предмет разговоров в госпитальных коридорах. Поговаривают, душевнобольных вдвое больше, чем может вместить больница. Окна закрыты щитами из досок, кое-где виднеются чугунные решетки.
Я услышал тихое однотонное жужжание, несменяемый контрапункт. Вспомнил, как в детстве подошел к пчелиному улью и впервые понял связь между забавным мирным жужжанием и грозными ядовитыми жалами. Там – пчелы, да… учитель что-то говорил про коллективный разум некоторых насекомых. А здесь… гневное и бессильное жужжание издавали люди, лишенные не только коллективного, но и собственного разума. Несчастные, втиснутые в тесные каморки.
Иногда сумасшедший дом посещали из любопытства городские аристократы. Вручали охраннику несколько монет и в его сопровождении с опаской ходили по коридорам – пощекотать нервы, развлечься и ужаснуться. А санитары, те, кто еще был способен хоть на какие-то чувства, злорадно ухмылялись и переглядывались – важные господа иной раз чуть не падали в обморок от увиденного.
Зачем я туда пошел? Вряд ли смогу объяснить. Гнойно-желтое нелепое строение на скале. Здесь когда-то была солеварня. По причине ядовитых испарений ее построили в отдалении от человеческого жилья. Потом солеварню забросили, а теперь она нашла своих постояльцев. У входа надпись: «Жалкое тщеславие и несчастная любовь погубили обитателей; путник, не узнаёшь ли сам себя?»
Прочитал не особо тщательно высеченные на камне слова и пожал плечами – конечно, узнаю. Нечего и спрашивать.
За воротами приглушенное монотонное жужжание сразу, как по взмаху дирижерской палочки, распалось на смешанные в почти невыносимой какофонии человеческие голоса: стоны, переходящие в вой, дикий хохот, жалобы, выкрики, перемежающиеся тихим бессмысленным хихиканьем.
В проходной было почти темно, и я не сразу различил маленького человечка. Неуверенно кивнул, и он, точно только и дожидался моего кивка, быстрыми шажками засеменил ко мне.
– Добро пожаловать! – мягкий, даже ласковый голос и пронзительные, любопытные глаза. – Поздравляю! Королевская пунктуальность.
Я не понял, что он имеет в виду. Какая пунктуальность?
Человечек наверняка заметил мою растерянность, но, казалось, ничто не могло повлиять на его откровенно восторженное настроение. Он поклонился и жестом, широко улыбаясь, пригласил на лестницу.
– Если будете так любезны следовать за мной, покажу вам наши пенаты.
Несомненно, принял меня за кого-то другого. Я подавил желание указать ему на ошибку: любопытство пересилило. Само собой – я ведь и пришел сюда именно из любопытства.
Мы поднялись по лестнице и оказались во дворе, окруженном со всех сторон разноэтажными строениями. На заснеженной земле валялось немыслимое количество разнообразного мусора, выброшенного из частью разбитых, частью небрежно залатанных досками окон. Несколько пациентов в грязных рубахах, как один, раскачивались вперед-назад и не сводили с нас испуганных глаз.
– Не обращайте внимания, – махнул рукой мой Вергилий. – Домашние животные в человеческом образе. Никакого вреда. Как испугаются чего, так и убегут. Все вместе, заметьте, – стадный инстинкт, как у животных. Вы же обращали внимание: если ложится одна корова в стаде, тут же ложатся все. Бог с ними, у нас есть куда более интересные пациенты. Следуйте за мной.
Мы поднялись еще на несколько ступенек. Проводник остановился у двери, прокашлялся и произнес следующую речь.
– Изначально у нас было двадцать семь палат. Намерения самые благие: в каждой палате – один пациент. С минимальными, если позволите так выразиться, удобствами… Мне, уж простите, неизвестен ваш взгляд на мир, где нам выпало счастье жить. Чужая душа – потемки; любому ясно – потемки, потемки… а приглядишься: да что ж такое? Опять потемки. И есть ли она, душа? То ли есть, то ли нет – вопрос, знаете ли, весьма спорный… а что до меня, так ничего удивительного. Ничего удивительного! Поначалу казалось – о! как много! двадцать семь палат! А потребность оказалась куда большей, и уж тем более ничего удивительного… Город сводит людей с ума, вот что я вам скажу. Ежегодно, ежедневно и ежечасно город сводит людей с ума. Поток несчастных, потерявших рассудок, не иссякает. И, кажется, никогда не иссякнет. Сейчас в каждой палате по несколько пациентов, самое меньшее – по четыре. Буйных содержим в кандалах и стараемся отделить от остальных. С той же целью во многих палатах пришлось возвести перегородки… что ж, пройдемте внутрь.
Он отошел в сторону, не без труда снял засов и толкнул одну за другой тяжелые двойные двери. Первым моим побуждением было заткнуть уши, выскочить в коридор и закрыть за собой дверь. Свирепое рычание, жалобный вой, скрежет зубов и ногтей, царапающих штукатурку – все слилось в выматывающий душу оглушительный шум. Вот-вот лопнут барабанные перепонки.
– Скоро будем задавать корм. С головой у них так себе, но с желудками полный порядок. Желудки у них вместо часов.
Он пошел по коридору, то и дело останавливаясь и обращая мое внимание на интересные, по его мнению, детали.
– Как вы наверняка обратили внимание, двери у нас надежные. Хотя для спокойствия в палатах есть и внутренние двери. Те, пожалуй, еще прочней. Многие пациенты крайне агрессивны. Мы не решаемся выпускать их в коридор – видите окошки в дверях? Через них подают пациентам еду. И забирают горшки, разумеется. К сожалению, не все в состоянии пользоваться таким удобством, как ночной горшок, оттого и запах. Заметьте: печи топятся из коридора. Правда, только в самые холодные дни. Дрова приходится экономить, и – хоп! – вот вам и положительная сторона тесноты. В палатах всегда плюсовая температура. Пациенты греют их своими телами. Хотите глянуть? – Он приложил палец к губам и осторожно приоткрыл смотровое окошко в старой, с дубовой заплатой двери.
Моему маленькому чичероне пришлось встать на цыпочки, хотя люк был как раз на уровне глаз нормального человека. Увиденное заставило его улыбнуться, и он поманил меня пальцем. Глаза не сразу привыкли к полутьме в палате, пришлось довольно долго вглядываться в мельтешащие тени. Полуголый парень, позвякивая в такт прикованными к стене кандалами, изображал непристойный танец. А остальные трое в противоположном углу самозабвенно дрочили, раскачиваясь в ритме танца.
Я с отвращением отвернулся.
Мы двинулись дальше.
– Здесь темные палаты. Темные в прямом смысле, без окон. Сейчас тут довольно мрачная компания – больные французской болезнью, те, кто не поддается лечению ртутью. Показать по понятным причинам не могу, но не так уж и важно: ничего нового. Проваленные носы, гнойные язвы… их бессильная ярость впечатляет, но знаете… нужно особое настроение, чтобы захотеть полюбоваться. А так-то они не очень разговорчивы, особенно если учесть, что болезнь поражает и язык. Кончик языка гниет и отваливается.
С каждой минутой мне становилось все труднее и труднее подавлять приступы дурноты. Нестерпимо хотелось поскорее покинуть это Богом забытое место. Искрящийся под солнцем берег, откуда я зачем-то сюда пришел, представился истинным раем.
Мой гид замолчал. Он не двигался с места и смотрел на меня испытующе.
– Но какое-то лечение эти бедняги все же получают?
Он торопливо закивал, будто дожидался именно этого вопроса.
– Как утверждает наука, люди теряют рассудок, когда внешние и внутренние обстоятельства выводят здравый смысл из баланса. Как правило, весьма драматичные обстоятельства, но и баланс, доложу я вам, очень и очень хрупкий. И вернуть его, я имею в виду рассудок, можно лишь подвергнув больного воздействию, не уступающему в силе этим, как я уже сказал… весьма и весьма драматичным обстоятельствам. Так показывают новейшие изыскания. К примеру, у нас есть кожаный шланг, и мы можем внезапно окатить умалишенного ледяной водой. Раньше пробовали заражать больных чесоткой – надеялись, постоянный зуд отвлечет от бредовых идей. А теперь и заражать не надо – сами стены исправно снабжают пациентов чесоткой и без участия докторов. Есть и другие методы… – Тут он заметил, что я близок к обмороку, и поспешно завершил фразу: – Но мы пока оставим их в покое.
Наконец-то он повернулся и показал на выход. Когда мы проходили мимо той самой двери с дубовой заплатой, сопровождающий внезапно положил мне руку на плечо.
– Смотрите-ка, забыл закрыть смотровой люк. Впрочем, беда невелика – все равно надо вам кое-что показать.
Он подвел меня к двери и пригласил заглянуть. Там, в полутьме, происходило то же малоприятное действо. Я пожал плечами и отвернулся.
– Нет-нет. – Он отрицательно помахал рукой. – Гляньте-ка повнимательней – видите там, в углу? В дальнем углу? Кто-то из господ не дождался очереди на горшок… – Человечек заговорщически придвинулся и прошептал мне в ухо: – Местечко-то это… для вас бережем.
Я отшатнулся. Он издевательски ухмыльнулся, показав острые, с прогалами, зубы.
– Такой молодой, такой красивый… такой гибкий! А кожа – чистый алебастр! Сафьян! Эти бедняги умрут от счастья.
– Кто вы такой?
– Сегодня один, завтра другой… – Он по-прежнему ухмылялся. – Вчера, к примеру, был Калле-Дюжиной[2]… чуть не плакал, представьте, чуть не плакал… вспоминал, как вел своих мальчиков в синих мундирах через Мазурское поозерье. Зимой, представьте… ельничек молодой на островах, весь в снегу. От одного ельника к другому… вспомнить приятно, как мы затаптывали грудничков каблуками на глазах у родителей… как же иначе, голубчик, как же иначе… понимаю, ничего хорошего, но как же? Вражья поросль… А как я вел моих ребятишек на полтавскую бойню… да что там! Пришли бы вчера, так услышали бы – свинцовая блямба все еще перекатывается у меня в черепе… тряхну головой, а она: тр-р-р-р, бряк, тр-р-р, бряк[3]… А сегодня? О, сегодня… сегодня у меня имен этих – поди сосчитай. Рогатый Пер, Палач, Пуке, Красный Петтер… Впрочем, называйте меня Сатаной. Мы вас ждем, дорогой вы мой. Уж вы-то, голубчик, лучше других знаете, где ваше место.
Я, возможно, нашелся бы что возразить на эту тираду, но меня остановил пронзительный голос, отдающийся гулким эхом в пустых коридорах.
– Тумас! Марш в койку! Тебе позволено гулять, а не вступать в разговоры с посторонними!
В конце коридора появился здоровенный санитар в грязной куртке. Он, ускоряя шаг, двинулся к нам.
Мой проводник опять придвинулся. На губах его по-прежнему играла злорадная улыбка. Я заглянул ему в глаза и отшатнулся. Огромные, черные, без единой искорки зрачки, будто намалеванные неумелым живописцем. Бездонные провалы безумия.
– А вот вам загадка на прощанье, – торопливо проговорил он. – Меня заперли в преисподней, я не имею права его покидать – но вот же я! Среди людей! Ключи к загадке везде, куда ни глянь. Запомните все, что видели, и берегитесь, берегитесь… мир полон ловушек.
Подоспевший санитар ухватил моего щуплого Вергилия-Тумаса за ворот. Попытка вырваться была тут же неумолимо укрощена парой затрещин. Бедняга заплакал, из носа потекла кровь. Он бросал на меня жалобные взгляды, будто я мог чем-то ему помочь.
– Вы уж извините… Мы не запираем его, и он иногда пускается в путешествия… иногда даже до вашего госпиталя доходит. Вообще-то он безвредный, но несет бог знает что. Очень прошу никому не рассказывать… нас тут только двое… санитаров, я хочу сказать… только двое на такую ораву. За всеми не уследишь. Надеюсь, вы не приняли его болтовню всерьез.
Разъяснение получено, но легче не стало.
Я побрел назад. Умалишенные во дворе, по-прежнему раскачиваясь, жались к стенам, словно пытались уловить эманацию задержавшегося в камнях тепла.
Я вышел за ворота, обернулся и еще раз поглядел на этот приют заживо погребенных. Постарался унять внутреннюю дрожь. Странно – сама природа словно уловила мое настроение: стало темно, хотя на блеклом январском небе не было ни облачка. Я поднял голову и обомлел: будто какое-то чудовище откусило больше половины солнечного диска. Остался только бледный полумесяц, как от наполовину съеденного ломтя хлеба[4]. Я не удержался и вскрикнул. Колени подогнулись, и я упал на снег. Лежал довольно долго, не в силах пошевелиться; меня парализовал леденящий ужас. Прошло не меньше минуты, прежде чем я решился открыть глаза и обнаружил: свет вернулся. Господи… солнечное затмение! Домашний учитель много раз рассказывал мне эти азы астрономии: в определенные дни Луна проходит между Землей и Солнцем и закрывает его, как правило, частично. И уж совсем редко происходит такое совпадение геометрических условий, что у ночного светила хватает решимости заслонить дневное целиком и полностью. И продолжается это явление, как правило, очень недолго; несколько минут, не более того.
Я встал, отряхнулся и поспешил в госпиталь, стараясь ступать по моим собственным, оставленным полчаса назад, следам. Других следов не было: за эти полчаса здесь не появлялась ни одна живая душа. Пока не открыл дверь своей палаты, ни разу не остановился, ни разу не посмотрел по сторонам. Залез, не раздеваясь, в постель и с головой укрылся одеялом. Вся прогулка была ошибкой; не надо было выходить из палаты, хоть они и попытались бы выкурить меня можжевеловым дымом. Что ж… просили потерпеть, пока подберут достойное лечение, а до того мне следует избегать общества. Тумас, конечно, не в своем уме. Но он напомнил мне о моем собственном преступлении; я не могу смотреть в глаза людям. Сразу вспоминаю, что натворил, и это причиняет мне невыносимую боль. Не могу смотреть людям в глаза, и вряд ли когда-нибудь смогу. Светлые дневные часы – самые мучительные…
Тебаика – прекрасная тинктура. Опий обладает волшебным свойством сжимать время. День проходит в тумане, в полусне. Тебаика заглушает совесть и разум, если и замечаешь какого-нибудь назойливого посетителя, тут же о нем забываешь. Эти драгоценные капли разводят в воде, добавляют для вкуса сахар или мед… к сожалению, я вынужден делить спасительную настойку с другими обитателями госпиталя. Запасы быстро иссякают. Хотя мы-то еще в лучшем положении: я слышал, госпиталь пользуется также и рационом тебаики, предназначенным для умалишенных. Может, это и справедливо: опий усыпляет разум, а у обитателей скорбного дома нечего усыплять: их разум давно и навсегда усыпил Господь.
И все же иногда запасы тебаики истощаются, и я разыгрываю спектакль. Качаюсь взад-вперед, бормочу монотонные заклинания. А когда смеркается, когда, чуть не наступая на пятки сумеркам, неслышно подкрадывается ночь, – только тогда я достаю письменные принадлежности.
Мой благодетель просил меня вести записи. Постараться вспомнить и восстановить, как он сказал, последовательность несчастных обстоятельств, приведших меня к разорению. Именно так и сказал: вспомнить и восстановить. Это, по его мнению, может примирить меня с судьбой, по прихоти которой я оказался на суровом берегу Балтийского моря, в Данвикском госпитале, или, как его еще называют, Доме призрения. Я не властен над своими чувствами. Он говорит, все еще может поправиться, в моем преступлении виновен не только я, но и нелепое стечение событий, каприз природных сил… ну нет. На этот счет у меня никаких иллюзий.
В голове бушует шторм, а в душе – томительная пустота. Я подношу руки к свече – на просвет они красны от крови. Я слышал, преступники обычно стараются отмыть от крови орудие убийства, но мои руки отмыть невозможно: они пропитаны кровью, сколько ни отмывай – не отмоешь.
Всю свою жизнь я мечтал о любви. Но если бы я понимал или хотя бы представлял, что это такое – любовь, никогда и никого бы не полюбил. Прекрасна и ужасающа, деспот в королевской мантии. Лихорадочно кипящая кровь… о господи, если бы я знал, в какую бездну завлечет меня любовь! В бездну, из которой нет возврата… Если бы сейчас мне сказали: загадай любое желание, и оно будет исполнено, но только одно, одно-единственное, – и думать нечего: ответ готов. Сделайте так, чтобы я никогда в жизни не познал любовь. И тогда бы я не оказался в этой богом забытой дыре, а она… нет, довольно.
Писал я довольно долго. Отложил перо и задул свечу. Закрыл глаза.
Хватит на сегодня. Я еще не готов писать про конец.
Пока хватит начала.
2
Детство мое вполне могло быть счастливым, у меня было все, что только можно пожелать, но судьба распорядилась иначе. Я родился под бархатным балдахином в наследственном имении моего отца. Загородное поместье называлось Тре Русур, как, впрочем, и весь род, веками с честью носивший эту фамилию[5]. Отцы, сыновья и внуки в нашем роду не только никогда не пытались заняться политикой, но вовсе ею не интересовались, отчего считались в обществе людьми приятными и безвредными. Земля исправно приносила отменные урожаи: отец мой, в отличие от многих, заботился об арендаторах. Он был достаточно мудр, чтобы понимать: хорошее настроение и добрая воля вассалов приумножают его доходы куда успешнее, чем принуждение или страх.
Родился я на семь лет позже моего единственного брата Юнаса. Мать, истосковавшаяся по светской городской жизни, решила хоть как-то скрасить скуку и однообразие жизни сельской и захотела второго ребенка. Врачи предупреждали – затея рискованная. Возраст, несколько выкидышей – рожать опасно. Но мать настояла. Бесстрашная женщина настояла на своем!
Разница в возрасте возвела между мной и старшим братом стену, которую так и не удалось разрушить. Как-то он – думаю, специально, чтобы меня помучить, – пересказал подслушанный разговор матери со старым домашним медикусом. Тот всеми силами ее отговаривал – нельзя рожать в вашем возрасте, способность к деторождению угасает, как и все другие способности. Предлагал различные методы прерывания беременности, но мать только рассмеялась и прогнала опытного врача. И когда с опозданием на три недели я все же появился на свет, она умерла. Всего раз в жизни довелось мне почувствовать тепло материнских объятий, и меня до сих пор бросает в дрожь, когда я пытаюсь представить сплетенные вокруг младенца медленно холодеющие руки.