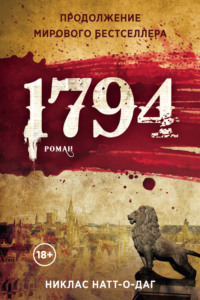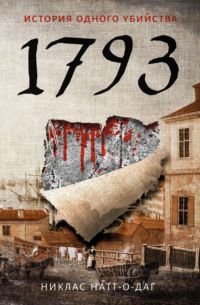Полная версия
1795
Он мотнул подбородком в сторону мальчишки, латающего сеть.
– И за ним придет. И за большим, и за малым. Неверный шаг у релинга – и до свиданья. Нет, ничего плохого не скажу – кое-кому и в радость, но, как говорится, держи стол накрытым и следи, чтобы очаг не погас. Конечно, надо бы бояться, ан нет. Боюсь, конечно, но не так уж чтобы. Вот сказал я – хорошо бы знать, а теперь думаю – ни к чему. Ничего хорошего. В море на службу не пойдешь, слово Божье уж и не помню, когда в последний раз слышал. Но, знаешь, никому не стоит тащить свои грехи в могилу. Вот и думаю: надо все свои дела привести в порядок, пока время есть. Расплатиться с долгами.
Порыв холодного ветра заставил старика поплотнее закутаться в одеяло.
– С чего бы это здоровенному мужику искать девушку? Много, конечно, причин, но похвальными их не назовешь.
Кровь ударила Карделю в лицо, перехватило дыхание.
– Я не желаю ей зла.
Он набрал горсть почерневшего снега и растер горящий лоб и шею. Немного успокоился.
– Не ты один хочешь расплатиться с долгами.
Старик помолчал, долго размышлял, стараясь оценить слова Карделя, потом коротко кивнул:
– Помню я ее. Хотел бы помочь, но… заноза до сих пор сидит. Знаешь, сколько ртов на плечах? Сами еле перебиваемся. Каждый должен делать свое, иначе не выживешь. Скоро и от меня проку не будет. Что ж… скорее утоплюсь, чем буду сидеть у других на шее. Но я рад, что ты пришел. Может, хоть теперь чем-то ей помогу.
Он пожевал губами и сплюнул. Слюна все еще желтая от табачного сока. Кардель опять протянул ему кисет. Старик благодарно кивнул и отрезал еще кусок.
– На следующий день после пожара. Колокола всю ночь трезвонили. Зарево-то мы видели, и что ж теперь… у вас, сухопутных, свои беды. Ваши беды – не наши беды, а наши – не ваши. Пришло утро, дым помаленьку рассеялся, а она так и сидит на берегу. Точно как ты сказал: светленькая, одежка черная от копоти.
Он кивнул в сторону полощущей ветви в воде плакучей ивы. Совсем недалеко, сто локтей. Не больше.
– Вон там и сидела. Может, и двигалась, но вроде и нет. И на следующее утро: глядим, а она так и сидит. Послали детей спросить, как и что – ни слова. Как каменная. А что мы? Оставили ее в покое, что ж еще… Лучше не знать, что с ней не так, почему она людей не замечает. А я сидел, точно вот как сейчас сижу, и вот что я тебе скажу: за три дня она и пальцем не шевельнула. Лицо все в саже, только белые полоски от слез, отсюда видно было.
– А дальше?
– А дальше пришел какой-то мальчуган. Лет десять, ну, двенадцать, это от силы. Что-то там он ей говорил, потом уселся рядом. Может, знакомая, откуда мне знать. Потом взял за руку и поднял. День был ясный, как сейчас помню. Повел ее под ручку, будто кавалер какой. А куда пошли – тут и соображать нечего. – Он кивнул в сторону Города между мостами.
Отсюда, в осаде ледяных таранов и катапульт, город выглядел довольно жалко. Шпили церквей вздымались в небо, как руки в мольбе о помощи.
– Теперь ты знаешь все, что знаю я. Больше мне сказать нечего. Не мешай. Держать огонь в узде – занятие не хуже, а может, и важнее других. Но ты и сам это знаешь, судя по твоей физиономии.
3
Настойчивый стук вытолкнул его из беспорядочного сна.
Эмиль Винге встал и пошел к двери. Мальчишка-посыльный из дома Индебету. Наверняка незаконный сын кого-то из полицейских. Или кто-то сжалился над уличным бродяжкой, дал пару рундстюкке – тоже не исключено.
Светлые волосы взлохмачены, вряд ли мыл голову за последние пару месяцев. Одет не по погоде, под носом – хрустальная вожжа соплей. Видно, что обрадовался поручению – бег помогает согреться.
– За вами послали. Ждут в Топорном переулке.
– Погоди пять минут… впрочем, нет, незачем тебе ждать. Беги назад, скажи, сейчас приду.
Винге зажег свечу. Пришлось несколько раз покачать вправо-влево часы Бьюрлинга, чтобы крошечные бриллиантики на циферблате поймали свет. Начало шестого. Сырое утро, занятое не столько своими весенними обязанностями, сколько воспоминаниями о прошедшей зиме.
Оделся, набросил пальто и спустился в переулок. Темно, еле-еле светит один-единственный фонарь – остальные уже высосали ночной рацион масла и погасли. Город между мостами по-прежнему не принимает его всерьез. Хотя он и научился кое-как разбираться в паутине переулков, то и дело приходится останавливаться на развилке и вспоминать: а дальше как? Направо? Налево? Он уже давно обнаружил: самый лучший ориентир – Мушиный парламент. Если запах есть – значит, ветер южный. Нет запаха – северный. А сегодня, как назло, – холодно, но ни ветерка.
В Топорном переулке его уже ждали констебль и с ним еще двое. Эмиль одного из них видел и раньше, но попытка вызвать в памяти имя окончилась полным провалом. Наверняка растерянность отразилась и на физиономии. Второго видел впервые.
– Юханссон. Мортен Юханссон.
Констебль шагнул вперед. Его подручные, должно быть, такого низкого ранга, что и представляться не должны. Но умеренно уважительные взгляды бросать не забывают. Перешептываются о чем-то. За глаза они называют его Привиденьице. Брата называли Призрак дома Индебету, значит, сам он у них числится рангом ниже. Так, наверное, смотрят на только что заболевшего чумой буржуа.
Он повернулся к их начальнику.
– Посмотрите, господин Винге. – Он показал в сторону.
На мостовой лежит тело. На лицо наброшен плащ.
– Кто-то треснул его так, что череп чуть не пополам. Сигвард и Беньямин поспрашивали – никто ничего не видел и не слышал. Довольно странно… если драка, обычно находятся свидетели. Шум, ругань – как не поглядеть в окно. Первое развлечение. А без свидетелей – пиши пропало. Так бы послал за могильщиком и успокоился. Но поговаривают… вы вроде бы видите то, что другие не видят. – Он улыбнулся, то ли уважительно, то ли насмешливо.
– Кто его нашел?
– Парень из ночной стражи. Уже домой собирался, последний обход. Примерно с час назад. Говорит, чуть не споткнулся.
– Он так и лежал, когда вы пришли?
– Ну да. Сдвинули малость с дороги. На сажень, не больше.
Просить не пришлось – полицейские без всяких просьб отошли в сторону и начали раскуривать трубки, с интересом поглядывая за его действиями.
Винге обратил внимание, что один из помощников констебля дрожит от холода: рубаха на голое тело. Он махнул ему рукой – иди грейся, ты здесь больше не нужен. Откинул плащ. Покойник лежит на спине. На вид лет пятидесяти. Пустой, мертвый взгляд. Почти лысый. На голове рана с запекшейся кровью, довольно небольшая – кровоизлияние в основном подкожное. Рана небольшая, а черно-синяя гематома почти во все темя.
Винге обшарил карманы. Кисет плохо завязан – в кармане полно табачной крошки. Карманные часы – покривившиеся стрелки под разбитым стеклом. Кошелек на поясе брюк. Потряс слегка – зазвенели монеты.
Это не ограбление, прошептал Сесил. И вряд ли драка, если учесть возраст убитого и его одежду.
Эмиль резко обернулся – никого. Констебль подался было к нему, но он покачал головой – нет, ничего. Показалось.
Да, одежда вполне приличная, у него наверняка было на что ее купить. И ночевал не под забором. Что еще? Что еще, Сесил?
В драке обречен: вряд ли смог бы себя защитить.
Эмиль посмотрел на покрытую грязью мостовую.
– А дождь шел, когда вы его нашли?
– Еще какой! Будто сам Господь горшок опрокинул.
Посмотри повнимательней, прошептал Сесил.
Эмиль отошел на пару шагов и соскреб верхний слой глины. Полицейские что-то зашептали друг другу. Одобрение или насмешка? Скорее, одобрение. Он их не разочаровал. Даже тот, в рубахе, никуда не ушел, а смотрел во все глаза. Ни с того ни с сего обхватил себя руками и начал насвистывать простенькую мелодию – Эмиль слышал ее не раз от собутыльников. Забавный пересказ библейского сюжета о Ное, сочиненный давным-давно и неизвестно кем.
Чуть повыше по склону – подъезд с крыльцом в несколько каменных ступенек.
Посмотри там. Посмотри на земле, на стене, на ступеньках. Думаю, он сидел там.
Сесил прав. Не так-то легко увидеть. На мореной древесине – маленькие черные пятна. Приложил палец – остался красный след, будто раздавил божью коровку. На верхних ступеньках лестницы под козырьком, там, куда не заливал дождь, – такие же следы.
Налево, налево… глянь налево.
На булыжнике рядом с крыльцом – маленькие белые черепки.
Ага… теперь загляни ему в рот.
Эмиль, то и дело оскальзываясь на мокрой брусчатке, вернулся к покойнику. Приоткрыл рот и заглянул. Темно, как в могиле. Морщась от отвращения, залез пальцем, оглянулся и крикнул:
– Можете дверь открыть?
Один из помощников кивнул и постучал. Выглянула заспанная старуха. Винге отодвинул ее в сторону, зашел в дом и поднялся по лестнице на чердак. Приложил ухо и услышал то, что ожидал. То усиливающийся, то ослабевающий шорох. Крысы. Сотни крыс.
– Зерно он там держит, зерно. Овес, кажется…
Констебль кивнул одному из помощников, тот поднялся по лестнице, отодвинул Винге в сторону и налег на дверь.
Влажный, застоявшийся воздух, полутьма, повсюду мелькают тени крыс. Клад, доставшийся им, слишком драгоценен, чтобы позволить людям вмешаться в пиршество. Полицейский хлопнул в ладоши, несколько раз топнул ногой – почти без результата. Только те из грызунов, кто был поближе, отбежали на несколько шагов. Остальные и ухом не повели.
Черт с ними, с крысами. Эмиль достал из влажного джутового мешка горсть овса, понюхал. Пахнет плесенью. Поднял голову – с потолка все еще капает, хотя дождь уже больше часа как кончился. Глаза привыкли, и он различил чуть поодаль, за мешками, позеленевший от плесени люк на крышу. Отодвинул засов и толкнул. Жестяной прямоугольник, проскрипев на петлях, плашмя грохнулся на скат. Посмотрел вниз – слегка закружилась голова. Прямо у него над головой – массивная, черная от копоти балка. Эмиль знал ее назначение: подъемное устройство. С нее спускают канаты, когда втаскивают крупную мебель на второй, третий и четвертый этажи. На конце болтается канат с крюком.
Винге спустился с четвертого этажа, прошел по склону, даже не взглянув на убитого, наклонился над канавой и очень быстро нашел, что искал: грязный дубовый чурбак. Живо представил цепь приведших к трагедии нелепых случайностей и с горечью подумал: как мало надежды, что в один прекрасный день ему удастся найти исчезнувший след Тихо Сетона.
Помахал констеблю.
– Это не убийство. Несчастный случай. Довольно странный, но все же несчастный случай.
Полицейские переглянулись.
– Он сидел вон там. – Винге показал на крыльцо. – Вернулся из кабака или с Баггенсгатан[3], этого мы не узнаем. Решил передохнуть, выкурить трубочку. Может, даже задремал с трубкой в зубах – по крайней мере, во рту полно осколков, а остальные валяются вон там, у крыльца. Зерно на чердаке давно сгнило, на досках дюймовый слой пыли. Краном давным-давно не пользовались. Если спросите хозяйку, наверняка расскажет: да, крыша течет, товар сгнил, постоялец махнул на него рукой. Возможно, даже в суд собирался подать… Короче, вон тот дубовый чурбак сорвался с крюка прямо ему на голову. Петля перетерлась, на нем кровь, можете пойти посмотреть сами. Ночь была ветреная, это я заметил, еще когда спать ложился. Весит чурбак лисфунт[4], не меньше. А дальше покатился по склону в канаву. Возможно, человек этот умер сразу, и тело скатилось вниз. Или успел сделать несколько шагов и потерял сознание. Крови немного, сами видите – типично для тупой травмы. Капли крови на ступеньках, на мостовой, в грязи… вы бы и сами заметили, если б не дождь.
Винге показывал то на крыльцо, то на крышу, то на канаву, а констебль кивал и исправно вертел головой.
– Если б не дождь… – повторил он. – Вот это да! Это же… сколько совпадений.
Случайность не признает математической логики, шепнул Сесил.
– Мир не был бы таким странным, если б в нем то и дело не происходили странные вещи.
– А кто виноват?
Безнадежно. Пустое.
Вот как… Сесил уверен: суд ничего не решит.
– Если есть желание, можно попробовать разделить ответственность между купцом и сдатчиком, но это вряд ли куда приведет. Несчастный случай и называется несчастным, потому что его нельзя предвидеть. Если вы расскажете родственникам все как есть, они могут подать в суд, если пожелают.
Констебль потер небритый подбородок.
– Вот как… ну-ну… спасибо за помощь.
Эмиль кивнул, повернулся и пошел домой. Трое полицейских пустились в обсуждение увиденного. Краем глаза заметил, как незнакомый, грустно качая головой, пересыпает в руки знакомого монеты: видно, побились об заклад.
А сам Эмиль никак не мог унять раздражение. В чем его заслуга? Следовал подсказкам на языке, которого не знает ни один человек в мире. В том числе и он, Эмиль Винге. Но, не зная слов, он этот язык понимает.
Люди из Индебету переглянулись.
– У меня аж мурашки по коже…
– Не говори. Если хочешь совершить преступление – лучше дождаться, пока его засунут в сумасшедший дом.
4
Они никогда не встречались в доме Индебету – из опасений, как бы не заметил случайно появившийся Ульхольм. С Винге он не знаком, но Эмиль настолько похож на брата, что у полицеймейстера никаких сомнений не возникло бы. А Сесил для Ульхольма был чуть ли не олицетворенной Немезидой в сюртуке. Исаку Райнхольду Блуму их сотрудничество с Эмилем Винге стоило многих бессонных ночей, да и днем он наверняка вздрагивал при мысли, что все может открыться.
Вот и сейчас – Блум встряхнулся, чтобы отогнать страхи и заодно согреться, открыл глаза и выпрямился. Ну нет – дать задний ход он не имеет права. Средства, возможно, слегка сомнительные, но цель ясна и благородна.
В квартале между домом Грилля и Жженой Пустошью они давно уже нашли уголок под козырьком крыши. Дождь не опасен, днем их убежище почти никому не заметно. К тому же с подветренной стороны, так что и ветер не страшен. В двух шагах от Индебету, но в таком месте, куда не всякий полицейский решится заглянуть, если, конечно, служба не заставит.
Блум пожал плечами, попытался сообразить: то ли сам пришел слишком рано, то ли Винге опаздывает. Но что делать – надо ждать. Свои карманные часы он нечаянно раздавил, а стрелки на башне Большой церкви почти неразличимы, как ни вглядывайся. Земля уже совсем отмерзла, сошедший снег обнажил мусор, который с осени никто убрать не озаботился. Попрыгал немного – разогнать кровь в замерзших ногах. Ноги не согрелись, зато забрызгал чулки и панталоны грязной жижей. Попытался счистить грязь, заметил подходящего Винге и отложил попытки до лучших времен. Поморщился – головная боль после вчерашнего так и не прошла.
– Эмиль… Понимаю, вы с утра на ногах. Юханссон считает уместным вознаградить вас за хорошую работу, а другие предлагают сжечь на костре – на тот случай, если вы на стороне нечистого.
Странный парень, этот Винге. Сходство с Сесилом поразительное… и чем дольше с ним знаком, тем лучше понимаешь – не только портретное. Манера говорить, двигаться – Исак Блум помнил Сесила с самого начала своей полицейской службы. А иногда приходится прикладывать немалые усилия, чтобы не приписать Эмилю участие в событиях, связанных вовсе не с ним, а с Сесилом. И говорит как Сесил, и руки держит за спиной – вылитый брат. В другие моменты все наоборот: Эмиль напоминает самого себя: вечного студента, полупьяного, робкого. Того Эмиля, который прошлой осенью явился к нему в контору и молол что-то несусветное.
Винге поклонился, встал рядом и сдвинулся чуть вправо – выбрал самое непродуваемое местечко.
– Исак… что нового? У вас все в порядке?
– А вы не слышали? Академия окончила свое существование. Эти идиоты дали Ройтерхольму повод, а Визирь не использовал свой шанс.
– Простите, Исак, я ничего не понял.
– Старик Ферсен, как вы знаете, в прошлом году отдал Богу душу. Седьмое кресло освободилось. На его место выбрали Сильверстольпе. Новый член академии решил подольстить режиму и назвал короля самодержцем. Что тут началось! Его обвинили в оскорблении его величества, а академию заподозрили в революционных взглядах и распустили. Сильверстольпе лишился места при дворе. Секретарская должность Рузенстейна ликвидирована, еле-еле спас шкуру. Теперь он домашний учитель у принца.
– Никогда не думал, что ваше сердце может так обливаться кровью от переживаний за события, которые вас не касаются.
– Не касаются? Это как сказать… Я научился подражать стихам Леопольда так, что он может принимать похвалы в мой адрес на свой счет. Получил в прошлом году два приза академии по двадцать шесть дукатов. Лундбладская премия, тоже в прошедшем году, – пятьдесят риксдалеров, прямо в кошелек. Это все академия, и, скажу я вам, не пустяки для человека, который, как раб, дни напролет торчит в полицейском управлении. А теперь? Еще один собачий год впереди.
Винге похлопал себя по плечам ладонями. Многие годы пьянства оставили следы на его лице – наследство, от которого ему вряд ли удастся избавиться, какой бы трезвый образ жизни он ни вел.
– А что нового в Индебету?
– Шутовство. И зверство. Шутовство и зверство. Режим видит шпионов в каждом прохожем. На днях какого-то итальянского учителя заподозрили в подготовке покушения на герцога. С чего бы? Ну нет, на эту публику резоны не действуют. Ульхольм получил приказ от Экмана: немедленно схватить и выдворить из страны. Дурость, не правда ли? Этого итальянца знает полгорода: добродушный, тихий, мухи не обидит. Но вышло еще глупее. Ульхольм, этот осел, перепутал двери и вломился к соседу, финскому офицеру. Крик, грохот, пинками стащили его в чем мать родила с женщины, руки связали, пинки, удары, шум, плач… Только когда несчастный итальянец сам приоткрыл дверь и спросил, не может ли чем помочь, полицейские сообразили: ошиблись! Пристроили офицера назад на даму – спасибо, дождалась, – вместо него схватили итальянца и на первой же шхуне отправили в Римини. Без суда, без следствия, без доказательств. Кому они нужны, если режим делает все что хочет? Не знаю, получилось ли что у финна с дамой после такой-то встряски. Может, утешится: его решили повысить в ранге. Чтоб не болтал лишнего. Знаете, Винге, добром это не кончится. В народе уже заметно брожение умов.
– Да… – Винге пожал узкими плечами. – Бывает…
Блуму показалось, что собеседник не проявил особого интереса к его рассказу. Он прокашлялся и сменил тему. Раздражение заставило его если не забыть, то задвинуть на второй план то, с чем он пришел.
– Но не всё в миноре, мой друг… – Он начал шарить в кармане пальто и достал два картонных прямоугольника с замысловатыми виньетками. – Нет, нет, далеко не всё… попадаются и мажорные нотки. Я приглашаю вас в театр. Мало того, на премьеру! «Смирившийся отец». Карл Линдегрен имел ошеломительный успех со своей первой пьесой, так что ожидания – сверх всякой меры. Что скажете? Неплохо отвлечься от кровавого гротеска жизни, не так ли? Я вас приглашаю. Билеты в ложу, разумеется, так что никакой толкотни.
Глаза Винге подозрительно сузились.
– Откуда такое внимание? – холодно произнес он. – На вас не похоже, Исак. А я, признаться, не особо интересуюсь театром.
Блум вздохнул и сунул билеты в карман. Винге показалось, что он не слишком разочарован ответом.
– Когда вы явились ко мне, Винге, не могу сказать, что я был в восторге. Думаю, вы понимаете почему. Но вы показали, на что способны. За несколько месяцев вы принесли столько пользы! Даже припомнить не могу все ваши подвиги. Исчезнувшие векселя Руута, труп в запертой спальне. А эта история с убитой женщиной! Все знают: раз женщина убита, кто виноват? Муж, конечно. Несомненно, как «аминь» в церкви. Но вы доказали, что и у правил бывают исключения. Без вас этот несчастный подмастерье болтался бы в петле, а истинный убийца гулял на свободе. А фальшивомонетчики так бы и печатали поддельные ассигнации.
– Полагаю, лесть имеет свои причины. Как и театральный билет.
Блум шутливым жестом поднял руки:
– Капитулирую! Вы, конечно, та еще птица, Винге. Но… если вы захотите, вас ждет в управлении блестящее будущее. Даже Ульхольм не станет протестовать, зная ваши заслуги.
Винге обычно избегал смотреть в глаза, но тут бросил на Блума острый, проницательный взгляд. Правда, тут же уставился на свои башмаки и, помедлив, произнес:
– Блум… вы же знаете.
В ожидании ответа Блум задержал дыхание, но на этих словах шумно выдохнул через ноздри.
– Да знаю, знаю… но я бы себе не простил, если б не сделал еще одну попытку.
Винге тяжко вздохнул. Блум только что обратил внимание, насколько у него усталый вид. Но странно: несмотря на усталость и следы пьянства на лице, Винге выглядел моложе своих лет.
– Каждый раз, когда отец получал известие об очередном успехе Сесила, он праздновал. Ходил по лестнице вверх-вниз, размахивал письмом и торжествовал: «Я же говорил! Именно так надо воспитывать детей! Еще одна ветвь в лавровом венке разума и знаний!» Потом ему на глаза попадался я; за партой, скованный невидимыми цепями подневольного детства. – Винге произнес последние слова с нарочитым пафосом, словно бы иронизировал. На самом деле именно эти призрачные цепи он и имел в виду. – Отец заглядывал через мое плечо, смотрел на каракули и кляксы, на арифметические задачи – я старательно притворялся, что не могу их решить, на вопросы из учебника – я намеренно давал на них неверные ответы… детская жестокость, знаете ли. Я ведь прекрасно знал, как привести его в ярость, спиной чувствовал, как он закипает. И наконец отец не выдерживал, хватал меня за шиворот и, вырвав лист из тетради, начинал тереть мне глаза, пока не начинала идти кровь носом. Потом ему приходило в голову сыграть со мной в шахматы… играл он очень плохо, так что мне иной раз стоило усилий загнать собственного короля в мат. Редкий вечер не кончался трепкой… он порол меня ореховыми прутьями, каждый день срезал свежие – по его мнению, для достижения лучшего эффекта розги должны обладать определенной упругостью. Моя спина была вся в полосах, как у сельского кота.
Настала очередь Блума опустить глаза. Он медленно покивал – показать, как ценит оказанное ему доверие. Он прекрасно догадывался, куда клонит Винге.
– А теперь скажите, Блум: можете ли вы понять, как горят все эти рубцы, когда меня вынуждают влезть в одежды Сесила?
Блум покраснел и повернул голову к ветру – охладить пылающие щеки.
– Вы, должно быть, догадываетесь, почему я задаю этот вопрос.
– Догадываюсь.
– Потому что, как мне кажется, вы выполнили наше условие.
– Да… по крайней мере частично. Вы просили меня узнать происхождение Тихо Сетона. Ответ задержался. Зима, знаете. Жизнь замедляется, сокодвижение в деревьях и вовсе замирает. Наша почта, разумеется, исправно следует законам природы. Уж не знаю, достоинство ли это. Думаю, в отдельных случаях следовало бы набраться смелости и эти законы нарушать…
Глаза Винге загорелись таким внезапным интересом, что Блум потерял нить поэтического объяснения плохой работы зимней почты.
– И?..
– Старый дорожный паспорт. Первый раз Сетон пересек таможню «Кошачья Задница» в семьдесят девятом году и в том же году отбыл в южные края. Касательно возвращения – неизвестно. Архивы – сплошное болото. Тонуть – тонешь, а выплывешь ли – вопрос. Во всяком случае, ни к одной общине не приписан.
– Так… отбыл в южные края. А откуда прибыл, чтобы в эти края отбыть?
– Написано – Сакснес. Село в уезде Хелльбу, если мне не изменяет географическая память. Это в Бергслагене.
Винге достал часы из кармана и глянул на циферблат – вряд ли можно выказать намерение уйти более красноречиво.
– Погодите… – Блум взял его за рукав. – Должен признаться, что не вполне понимаю, какую пользу вы собираетесь извлечь из этих сведений. Сетон и сейчас в Стокгольме, в этом мы можем быть уверены. Таможни предупреждены. Тем более описать его внешность труда не составляет, имя написано на физиономии.
– Когда вы в последний раз были на таможне, Исак? Не припомню случая, чтобы видел трезвого таможенника. Либо пьян, либо шлепает картами в будке. И уж во всяком случае, не ставит полицейские нужды выше собственных. Я сделал все, что мог, чтобы найти его убежище, – никакого результата. Либо он прячется лучше, чем я могу предположить, либо уехал. Денег у него вряд ли много, если и были, должны кончиться. А куда деться человеку без денег? Только в родные края, в надежде, что прокормят, – кровные связи накладывают определенные обязанности.
– И ради этой соломинки вы решаетесь на путешествие?
– Я уже полгода пою вам одну и ту же песню, Исак: вы его недооцениваете. Не понимаете, на что он способен. Вы никогда не видели превратившегося в растение Эрика Тре Русура с пробитой головой на стуле с дырой в сиденье, не видели запачканную кровью люстру. Не представляете одуряющий аромат выросших на разлагающихся трупах цветов, не видели, как он заставляет несчастного юношу резать ножом живую плоть оглушенной наркотиками женщины. У меня нет сомнений – если мы его не возьмем, будет еще хуже. Если бы я и Жан Мишель могли рассчитывать на серьезную помощь управления… Еще раз прошу вас, Блум: постарайтесь придать этому делу наивысший приоритет.