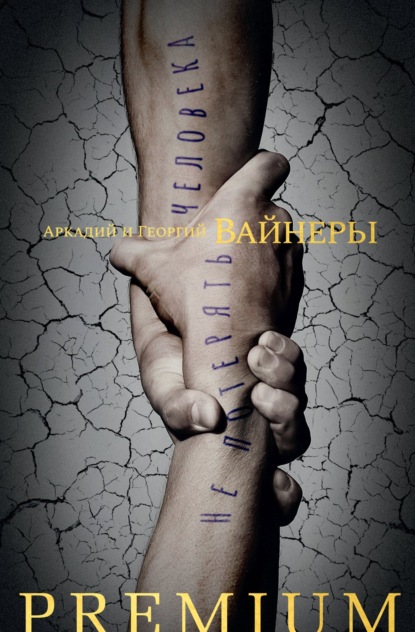Полная версия
Гонки по вертикали
Фаусто Кастелли, Фаусто Кастелли. Ничего родители имечко подобрали. Что же ты, Фаусто, не заявил, что Батон спер у тебя чемоданчик? А, Фаусто? Почему же это ты так поскромничал? Не нравятся мне такие тихие ребята… Такой ты богач, что не хотел себе из-за чемодана голову морочить? Это вряд ли. По своей практике я знаю: чем состоятельнее человек, тем бережливее он относится к своему барахлу. Нет, из-за этого молчать ты не стал бы, по крайней мере, заявил бы проводнику. А ты, Фаусто, друг мой ситный, ни гугу никому. И в декларацию внес только один чемодан, а про тот, что Батон прихватил с собой в Конотопе, – ни слова. И как же этот крест повешенного генерал-майора фон Дитца, белогвардейца и военного преступника, оказался у тебя в чемодане? Ну скажи на милость, зачем тебе орден благоверного князя Александра понадобился?
Билет у Фаусто Кастелли был до Софии. Проводники показывают, что туда он приехал благополучно. В Софию, в Софию… Черт-те что! Ничего не понятно. Не хотел привлекать к себе внимание? Почему? Почему же ты, голубчик Фаусто, не хотел привлекать к себе внимание уголовного розыска? Слушай, Фаусто, а может быть, ты шпион? Но шпион не повезет с собой открыто вещи, которые при первом же досмотре обязательно привлекут внимание. Так кто же ты, Фаусто? Жулик? Или просто болезненно застенчивый человек, боящийся оскорбить нас намеком, что в великой социалистической стране еще не перевелись воры? Не знаю, не знаю, что-то я не верю в твою гипертрофированную тактичность. Ладно, займемся тобой вплотную.
Как говорит в таких случаях Савельев, объявляется день повышенной до́бычи. Я влез на подоконник и растворил верхнюю фрамугу.
По Петровке гонял синий апрельский ветер, тонко парили лужицы на асфальте, а в саду «Эрмитаж» на газонах еще лежали иссеченные солнцем глыбы грязного черного снега. Рабочие обухами топоров разбивали фанерные колпаки над цветочными вазонами, и этот густой, толстый звук – тох! тох! – перекрывал уличный гам и доносился отчетливо сюда. В воде на мостовой купались толстые растрепанные сизари. Весна. И завтра Батон уже сможет насладиться ею в полном объеме на свободе. Я не смог ему доказать, что воровать нельзя, нельзя. Не смог. Какой-то сумасшедший калейдоскоп фактов, не имеющих между собой никакой осязаемой связи: Батон в КПЗ, Фаусто в Софии, генерал фон Дитц на том свете. Всех их объединяет крест. Нет, с этим крестом не все ладно. Я не могу пока еще понять его значение, но какая-то роль ему отведена, и, возможно, далеко не второстепенная…
Надо сосредоточиться, понять, что и куда ведет. Так, во-первых, выяснить все о Кастелли. Второе – прочитать дело Дитца. Третье – с Батоном. А что с Батоном? При всей унизительности моего положения Батона придется выпустить. Юридических оснований для дальнейшего содержания его под стражей не имеется.
Почему-то в этот день меня никто никуда не дергал, и даже телефоны не звонили, будто мои бесчисленные абоненты почувствовали, что меня не надо сегодня отвлекать. А я сидел за своим маленьким неудобным столом и писал запросы, план расследования, рисовал оперативную схему и раздумывал о том, что не должна вот так закончиться наша нынешняя встреча с Батоном. Это будет неправильно, ну просто вредно для нас обоих. Уже совсем стемнело, когда позвонил Савельев:
– Так что в Библиотеке Ленина я…
– Что? – удивился я. – Ты как попал туда?
– Значит, подробностями я тебя обременять не стану, сообщу сразу результат: пленочка вся или почти вся отснята в Болгарии.
– Ты сохрани эту лаконичность для всех остальных случаев, а сейчас уж, будь друг, обремени меня подробностями…
– Хозяин – барин, пожалуйста. В «Экспортфильме» сделали очень неуверенное предположение, что на афише изображен кадр из болгарского кинофильма «Опасный полет». Но, во-первых, утверждать это категорически они не могли, а во-вторых, болгарский кинофильм мог идти где угодно – хоть в Уругвае.
– Понятно, понятно, дальше…
– Сам же просил подробностей. Тогда я в Союз архитекторов. Естественно, запрос наш там еще никто и не рассматривал. Ну поторопил я их… Не, не, все очень вежливо. Ласково все им объяснил, со слезой в голосе. Ну отыскали они мне в два счета какого-то дедка в ермолке, вот он сразу и точно заявил, что все красоты на снимках – фрагменты памятников, установленных в Софии и Плевене. Облобызал я деда на радостях и помчался в библиотеку.
– А в библиотеку-то зачем?
– Я деду-эксперту доверяю, но проверяю. Потому как я еще не академик архитектуры, а просто сыщик. Он ведь и ошибется – научный просчет, а мне шею намылят. Вот и взял я тут вечернюю софийскую газету, чтобы ознакомиться с репертуаром местных кинотеатров…
– А что ты по-болгарски понимаешь?
– Все, – спокойно заявил Сашка. – У них язык точно как у нас, только на старославянский сильно смахивает. У нас – «я», у них – «аз», мы говорим – «был», а они – «бяше». «Слово о полку Игореве».
– Да, ты у меня крупный исследователь, – согласился я. – Так что с кинофильмом?
– Помнишь, на фото просматривались три буквы названия кинотеатра – «СКВ»? Оказывается, в Софии есть кинотеатр, который называется «МО-СКВА»! И с двадцать восьмого марта по третье апреля в нем шел кинофильм «Опасный полет». Возражения имеются?
– Порядок. Можешь возвращаться на базу. Выполнял поручение истово.
Я сел к машинке и отстучал постановление об освобождении Батона из-под стражи, и, когда я дошел до слов «… из-под стражи освободить…», настроение у меня совсем испортилось, потому что обозначали они мой полный провал. Потом спрятал бланк в папку и отправился к шефу. Вошел в его кабинет и, как смог твердо, сказал:
– Полагаю, что Дедушкина ни в коем случае отпускать нельзя!
Как расхваставшийся и неожиданно уличенный мальчишка, я надеялся, что еще может произойти какое-то чудо, которое спасет меня от позора, хотя отлично знал: ничего не может сейчас случиться и Батона надо будет выпустить.
Шарапов поднял взгляд от бумаг и как будто взвесил меня – чего я стою, усмехнулся и снова опустил глаза, дочитывая абзац. При этом он пальцем придерживал строку, будто она могла уползти со страницы. Потом подчеркнул что-то карандашом, поставил на поле жирную галку и отложил документ в сторону. Снял очки и положил их на стол. Очки у Шарапова были наимоднейшей формы – с толстыми, элегантно оправленными в металл оглоблями, крупными, отливающими синевой стеклами. Не знаю уж, где достал себе Шарапов такие модерновые очки, но нельзя было и нарочно придумать более неуместной вещи на его круглом мясистом лице с белыми волосами. Он помолчал немного, потом спокойно сказал:
– Судя по твоему тону, все законные основания для содержания Батона под стражей исчерпаны. Да-а…
Это было его фирменное словечко – да-а. Он говорил его не спеша, врастяг, набиралось в нем обычных «а» штук пять, и в зависимости от интонации оно могло означать массу всего – от крайнего неодобрения до восхищения. И незаметно все мы – Сашка, я, Дрыга, Карагезов, все ребята из отдела стали говорить «да-а-а». Не то чтобы мы подделывались под Шарапова – словечко уж больно хорошее было. А сейчас его «да-а» ничего не выражало, ну вроде он констатировал, что я крупно обмишурился, и все. Я кивнул.
– Да, почти исчерпаны. Но существует еще арест в порядке статьи девяностой – до десяти суток без предъявления обвинения.
Шарапов усмехнулся:
– Да, я слышал об этом где-то. Там в аккурат речь шла об исключительных случаях… Предположим, что мы продержим Батона еще неделю. Какие ты можешь гарантировать результаты? Если они будут на нынешнем уровне, извиняться перед Дедушкиным придется втрое. И все.
– Я, между прочим, не пылесосы выпускаю. И не электробритвы. Ну и никаких гарантий давать заранее не могу… Но… но…
– После такого «но» должно последовать серьезное откровение…
– Этого не обещаю. Но я предлагаю двинуться не вдоль проблемы, а вглубь.
Шарапов поднял белесую бровь. Я разложил на столе оперативную схему и развернутый план расследования.
– Дальнейшая разработка и допросы Батона представляются мне бесперспективными. Сознаваться он не станет. Но мне не дает покоя крест. Странный он очень, этот крест. Поэтому я хочу затребовать из архива Верховного суда дело атамана Семенова. Это раз. А затем самое главное: надо связаться с болгарским уголовным розыском – запросить их об этом Фаусто Кастелли. Вчера он приехал в Софию. Если он вполне респектабельный человек, надо попросить болгарских коллег порасспросить его о чемодане.
Шарапов зачем-то надел очки и посмотрел на меня исподлобья сквозь дымчатые стекла. В это время постучал в дверь Савельев:
– Разрешите присутствовать, товарищ подполковник?
– Присутствуй.
– Давайте еще раз с Батоном поговорим, – предложил я.
– Бесполезно, – с ходу включился в разговор Сашка. – Это же не человек – это кладбище улик.
Но Шарапов уже снял телефонную трубку и коротко приказал:
– Дедушкина ко мне, – положил трубку на рычаг и сказал нам: – Поговорим и, по-видимому, отпустим…
Сашка, который не слышал начала нашего разговора, взвился с дивана, как петарда:
– То есть как это отпустим? В каком смысле?
– В прямом, – спокойно сказал Шарапов. – Тем более что Батон не иголка, фигура всесоюзно известная и в случае чего никуда от нас не денется. – Он быстро взглянул на меня и снова повернулся к Савельеву. – Я думаю, что у Тихонова уже лежит в папочке постановление о его освобождении. А, Стас?
– Допустим, что лежит, – сказал я зло.
Сашка посмотрел на меня так, будто я предал его в тяжелую минуту:
– Как же это можно? Он ведь вор… Он же отъявленный ворюга…
– Да, он вор. Но мы не доказали этого, – сказал Шарапов грустно. И я подумал, что, когда он нас хвалит, он говорит: вы это хорошо сделали, а когда мы в провале, он говорит: мы этого не смогли сделать.
Сашка обернулся ко мне, будто ища моей поддержки:
– Ну ты-то что молчишь? Для чего же я его поймал? Ведь его нельзя выпускать! Он ведь завтра снова чего-нибудь украдет…
Шарапов положил очки на стол и сказал задумчиво:
– Да, сынок, ты прав. Он представляет собой постоянную общественную опасность. Но содержать в тюрьме человека без достаточных доказательств – еще бо́льшая опасность для общества. Ты кое-чего, к счастью, не помнишь…
– Но ведь Батон преступник, и смысл, содержание закона – на нашей стороне, – почти выкрикнул Сашка. Он был бледен той прозрачной синеватой белизной, что заливает лица рыжих людей в момент сильного волнения.
Шарапов твердо сказал:
– Закон – это тебе не абстрактная картина, и смысл его выражен в форме. Саша, запомни, пожалуйста, что, когда причастные к закону люди начинают толковать его смысл, а соблюдением формы себя не утруждают, закон очень быстро превращается в беззаконие. Незадолго до моей болезни у нас с Тихоновым был разговор на эту тему. Ты как тогда сказал, Стас? А?
Да, я сказал это тогда, а сейчас я проиграл, и надо признать поражение.
– У нас не бывает побед по очкам…
– А дальше?
– За нами признают только чистые победы.
– Вот именно. И пожалуйста, правила игры под свои возможности не подгоняйте. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы не поняли меня. Судя по вашим стонам, вы оба решили, что раз Кастелли в Софии, а Батона отпустим, то делу будет позволено догнивать на корню. Должен вас разочаровать – я с вас шкуру спущу, если вы его до конца не доведете. И примите как приказ, если нормальных человеческих слов не понимаете…
– Перспектив мало в этом случае, – буркнул Сашка.
– Мало? – сердито посмотрел Шарапов. – Может быть, и мало. Но это твоя вина. Потому что нераскрываемых преступлений не существует. Есть сыщики, которым это не удается.
Сашка, пожав плечами, изобразил возмущение – мол, давайте уж, валите все сразу.
– И мимические жесты свои мне не показывай, для девушек прибереги. Рассказали мне, что ты в подшефной школе беседу провел – «Единоборство с вором». Чушь это все!
– То есть как это? – удивился я.
– А так! Нет никакого поединка, поскольку смысл этих слов – это соревнование один на один. Взять хотя бы, к примеру, твое первое серьезное дело, Савельев. С бандитом Валетиком. Ты как думаешь, взял бы ты его один на один?.. Никогда бы ты его не отработал. И Тихонов бы ничего не сделал. И я то же самое. Он ведь каждого из нас не глупее был. Смог бы ты спуститься по водосточной трубе с одиннадцатого этажа? Не знаю. А Валетик спустился…
– И что? – все еще задиристо спросил Сашка.
– Ничего. Валетик-то против тебя действительно один, у него весь расчет как у волка – только на себя. А мы тут против него впятером думали. Но и это не самое главное. Когда ты выходил за Валетиком, у тебя в одном кармане лежал «макаров», а в другом – красная книжечка. Там написано, что ты – офицер МУРа. И эта маленькая картоночка давала тебе силу ну просто исключительную! Мандат от всех людей. Ты был их представитель и, может быть, об этом не думал, но уверен был, что, кого ты ни попросишь или кому что ни поручишь, все будут доброхотно тебе помогать.
– Что, значит, я ничего и не сделал? – обиженно сказал Сашка.
Я разделял его обиду, потому что дело-то действительно было проведено блестяще.
– Как не сделал? – удивился Шарапов. – Ты прекрасно поработал. Но успех вовсе не от этого твоего «поединка» взялся и не от храбрости и тэдэ и тэпэ… Добросовестность. Понимаешь? Добросовестность в работе. Ты хорошо думал тогда – тяжело, трудно. Как пахал, как лес рубил, с потом, с кровью, больно думал. Оттого и победил.
– Да вы же сами себе противоречите, Владимир Иванович! – сказал Сашка.
– Нет. Если бы не было тебя, это дело отработал бы Тихонов, или Дрыга, или я. Но никто из нас в одиночку его бы не сделал, разве что случай помог бы. Да какая надежда на случай, ты сам знаешь. Ты вел это дело, как вожак упряжку. Но тяжелые сани один вожак с места не стронет…
В дверь постучали, вошел конвойный милиционер:
– Товарищ подполковник, задержанный доставлен.
Батон был очень бледен, спокойно-медлителен, и его огромные черные глаза будто попали случайно на чужое лицо – как в широких прорезях алебастровой маски, они метались тревожно и живо. Батон понимал, что сейчас его или отпустят, или отправят в тюрьму. Он узнал Шарапова и сказал:
– Мое почтение, гражданин начальник. Как говорится в старой пьесе – «друзья встречаются вновь».
– Здравствуй, Дедушкин. Не могу тебе сказать, чтобы я слишком радовался нашей встрече…
– А я, ей-богу, рад. Недоразумение уж, наверное, выяснилось, а с умными людьми пообщаться всегда приятно.
– Точно, – сказал Шарапов. – Тем более что умные люди уже выяснили, у кого ты увел чемоданчик.
– Серьезно? – озабоченно спросил Батон. – Значит, недоразумение все еще длится и теплого душевного разговора не получится.
А глаза у него бились, метались в маске лица. Мне вдруг совсем некстати стало жалко Батона – такой умный, сильный человек посвятил свою жизнь уничтожению себя.
Шарапов негромко сказал:
– Прекрати, Дедушкин, волынку. Мы с тобой сейчас не играем. Чемодан ты украл тринадцатого апреля около девяти часов утра в «Дунай-экспрессе» у итальянского гражданина Фаусто Кастелли.
– Да-да, помнится, какой-то господинчик, ехавший в моем купе, показался мне итальянцем… Правда, багажом его я не интересовался.
Савельев сказал:
– Ты бы нас хоть перед иностранцами не позорил. Стыдно.
Батон усмехнулся и сказал с нотой нравоучения:
– Гражданин Шарапов, у вас служат аморальные люди. Даже если бы вы доказали, что я у этого итальяшки махнул чемодан, то разве с точки зрения нравственности это хуже, чем обворовать нашего советского честного труженика? Он ведь, наверное, буржуй и живет, скорее всего, как и я, на нетрудовые доходы. Где-то его даже можно причислить к лику агентов империализма. Простые итальянские трудящиеся не катаются по заграницам люкстуром, а заняты классовыми боями.
Вот сволочь-то, еще издевается над нами.
А Батон продолжал:
– Судя по задушевности нашей беседы, этот самый Фаусто еще не заявил своих гражданских претензий и имущественных прав. Все, что вы мне говорите, – обычные предположения, которые вы любите называть версиями. Я бы хотел более серьезных доказательств моей вины. Ведь я тоже не по своей охоте законы выучил.
– Ну а вещички в чемодане? – спросил Шарапов. Он говорил спокойно, с каким-то ленивым интересом, будто все происходящее здесь его совсем мало волновало.
– Вещички? – пожал плечами Батон. – Их нельзя считать доказательствами.
– Это почему же? – полюбопытствовал Шарапов.
– Потому что я могу выбрать для себя две линии защиты. Первая: заявляю вам категорически, что чемодан купил целиком у какого-то неизвестного мне гражданина – все, точка. Вторая: открываем широкую дискуссию по презумпции невиновности – я-то ведь не должен вам доказывать, что я не виноват, это вы должны доказать мою виновность. Поэтому речь может идти только об оценке доказательств, а это всегда штука субъективная. Например, старый пожарник, прослуживший всю жизнь в консерватории, на вопрос, чем отличается виолончель от скрипки, объяснил, что виолончель дольше горит. Понятно?
– Понятно, – кивнул Шарапов. – Ну что ж, ты меня окончательно убедил: парень ты серьезный. Поэтому посадим мы тебя обязательно…
– Нынешний эпизод не годится, – покачал головой Батон. – Товар калина – дерьма в нем половина.
– Ладно, посмотрим, – так же легко, без всякой угрозы сказал Шарапов. – Ты бы, Дедушкин, рассказал мне лучше чего-нибудь еще про итальянца. Нет настроения?
Батон не спеша осмотрел нас всех, задумался на мгновенье, потом сказал:
– Сдается мне, что этот Фаусто интересует вас больше, чем я. А, гражданин начальник?
Шарапов кивнул:
– Допустим. Так что?
Батон думал, мы его не торопили. Потом сказал:
– Что – «что»? Ничего!
– Не будем говорить?
– Конечно не будем. Вы думали: «Советская малина врагу сказала – нет»? Ничего подобного…
– Почему?
– Слушайте, Шарапов, вы же умный человек. Неужели вы не понимаете, что такой враг, как этот Фаусто, мне-то гораздо ближе, чем такой земляк, как вы? Его я, допустим, не знаю и знать не хочу. А вас я знаю так же хорошо, как то, что вы хотите меня посадить в тюрьму. Надо мной не тяготеет моральное бремя патриотизма, поэтому помогать вам ловить кого-то я не стану. И вы в этом тоже виноваты.
– Почему? – по-прежнему невозмутимо задавал вопросы Шарапов.
Батон посмотрел на него прищурясь, будто решал – говорить или не надо. Потом решил:
– Тихонов считает, что мы с ним уже старинные знакомые. Не знаю, говорили ли вы ему, что мы с вами познакомились, когда он в кармане еще не пистолет, а рогатку таскал. И я вас хорошо изучил за эти годы. Вы в общежитии совсем маленький, заурядный человек. Вами даже жена дома наверняка командует. Таких людей идет ровно двенадцать на дюжину – ни пороков, ни достоинств. И так каждый день, круглый год – минус время на сон. Но те десять-двенадцать часов, которые вы проводите в этом кресле – вы же наверняка перерабатываете, – делают вас фигурой, личностью, значительным и сильным человеком. Ответственность за людей, власть над ними, постоянный риск, азарт игры и поиска делают вашу мысль острой, а жизнь интересной. Поэтому вы не просто любите свою работу, а вы живете ею, у вас ничего нет, кроме нее, и как бессмысленно человеку обманывать самого себя, так вы никогда не пойдете на сделку со своей профессиональной честностью. Она ведь превратилась в основу вашего существования. Это оплот вашей веры, и вы лучше получите строгача или служебное несоответствие, чем предложите мне: «Давай, Дедушкин, помоги нам разобраться с итальяшкой, а мы уж дело с чемоданом замнем». Я вас за это не осуждаю, но, честно говоря, сильно не люблю. И думаю, что этот разговор в присутствии ваших мальчиков вы мне никогда не забудете…
Шарапов долго молчал, покручивая в руках очки, потом надел их на нос и еще раз внимательно осмотрел Батона.
– А я полагаю, что мои мальчики думают так же, как я. И надеюсь, что тоже меня не осуждают. Ну а разговор у нас был хороший. Я ведь в жизни опасаюсь только неизвестного. А с тобой просто – ты нам очень даже понятен.
– Грозитесь? – усмехнулся Батон.
– Нет, – сказал Шарапов. – Я когда слушал тебя, мне стало немного страшно. Ты очень опасный человек. Я и сам не больно чувствительный, но тебе прямо удивляюсь – отсутствуют у тебя человеческие чувства. Живи ты тридцать лет назад в Германии, вышел бы из тебя натуральный эсэсовец.
– А что бы делали вы?
– Не знаю. Наверное, старался бы не попасть к тебе.
– Вот видите – от перемены мест слагаемых…
– У нас с тобой, Дедушкин, не сложение. Мы, понимаешь, просто исключаем друг друга… Да-а-а… В общем, разговор закончен.
Да, разговор был закончен совсем. Я достал из папки бланк и сказал:
– Гражданин Дедушкин, мы считаем дальнейшее содержание вас под стражей нецелесообразным…
– Незаконным! – перебил он меня.
– …нецелесообразным, – продолжал я, – в связи с чем вы освобождены из-под стражи. Распишитесь вот здесь на постановлении…
Дедушкин встал, не спеша подошел к столу, достал из стакана на столе у Шарапова ручку, аккуратно обмакнул ее в чернильницу, внимательно осмотрел кончик пера, взял в руки бланк, прочитал.
– Здесь расписаться?
– Здесь, – сказал я негромко, и ярость, тяжелая, черная, как кипящий вар, переполняла меня, и ужасно хотелось дать ему в морду.
Батон быстро наклонился к листу бумаги, будто клюнул его, поставил короткую корявую закорючку. Но и в этот короткий миг я разглядел, как сильно тряслись у него руки. И промокать пресс-папье его подпись я не стал, потому что он бы увидел, как трясутся руки и у меня. Просто я взял листок бумаги и небрежным таким движением помахал им в воздухе – вроде бы закончил неприятную процедуру, и слава богу. Я положил бланк в папочку и сказал:
– За задержание приношу свои официальные извинения. – И сказал я это как-то весело, со смешком, будто в подкидного дурака проиграл и наплевать мне и на проигрыш, и на Батона, и на извинения все эти пустяковые. И почувствовал, что, если скажу еще одно слово, из глаз могут покатиться дурные, злые слезы досады и отчаяния.
А Батон засмеялся и сказал:
– Да ну, ерунда какая! Бог простит. – И не удержался, добавил: – Я же ведь говорил вам, Тихонов, что извиняться еще придется. А вы посмеивались. Правда, должен признать, что вы уже совсем не тот щенок, которого я знал.
Он сделал паузу, посмотрел на меня с насмешкой и врубил:
– …Совсем не тот. Другой, другой… Кстати говоря, а как с вещами?
Не знаю почему, но этим ударом он как-то снял с меня напряжение, будто из шока вывел. Плюнул я на все эти игры со спокойствием и «позиционной борьбой» и сказал попросту:
– Рано радуешься! Дело-то продолжается. Я ведь тебе извинения официальные принес как должностное лицо. А я сам – Тихонов – перед тобой не извиняюсь, потому что ты вор и к тому же не самый толковый. Поэтому в присутствии своих товарищей клятву даю – я тебе докажу, что воровать нельзя. И если я этого не сделаю, то я лучше из МУРа уйду. Но я тебе докажу, что из МУРа мне уходить еще рано.
– Красиво звучит. Прямо клятва Гиппократа. Так что с вещами? С чемоданом моим что?
– Вот с чемодана и начнем. Чемодан не твой – он ворованный и как вещественное доказательство будет приобщен к делу до конца следствия. Уведомление об этом тебе вручу в собственные руки. Гражданин Дедушкин, вы свободны. Можете идти…
Батон дошел до дверей, и шаг у него был какой-то неуверенный, заплетающийся, как у пьяного. Может быть, потому, что в ботинках не было шнурков, не знаю. Но он все-таки обернулся и сказал с кривой ухмылкой:
– Прощайте…
Мы с Шараповым промолчали, а Сашка крикнул вслед:
– До свидания! До скорого!
Глава 12
Час свободы вора Лехи Дедушкина
На свободе было полно воздуха, свежего, прохладного воздуха. Один шаг за дверь – и позади смрад портянок, кислый запах баланды и капусты, пота, карболки и еще какой-то дряни. Тюремный запах – это дыхание страха. И всякий раз, выходя на волю, я удивлялся: как это люди не замечают того сладкого воздуха, которым пахнет свобода.
Я дошел до Страстного бульвара и остановился, раздумывая, куда мне податься. Кровь молотила в висках, я задыхался от нестерпимого желания заорать на всю улицу: «Вот она, свобода!» И от пережитого напряжения всего меня сотрясала внутренняя дрожь, будто я ужасно замерз, будто забыли меня на много дней в холодильнике, и я совсем окоченел, до самого сердца, и теперь только руки-ноги оттаяли, а внутри лед, и тряслись внутри меня все поджилки от уходящего испуга, но испуг был глубоко – в самом замерзшем сердце, и не мог его вытаять сразу даже этот апрельский вечер теплый, не мог его выдуть свежий воздух, горько-сладкий, настоянный на тополиных почках.