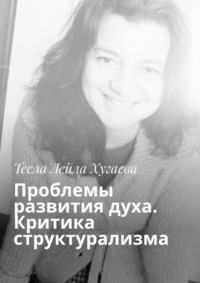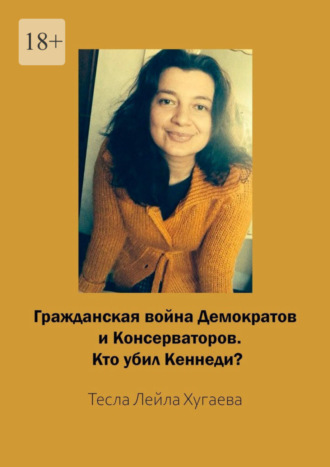
Полная версия
Гражданская война Демократов и Консерваторов. Кто убил Кеннеди?
Рационалист утверждает, что Интеллект первичен. Интеллект как форма космоса, выложенная законами природы. Как хорошо ты сказал, Бертран Рассел: материя, которая удовлетворяет уравнениям физики! Уравнения физики, уравнения химии и биологии, математики и геометрии – все это интеллектуальная первооснова космоса. Это творение, создание космоса, выраженное в интеллектуальных формулах энергий природы. Материя – всего лишь вещественное содержание этого интеллектуального «скелета», этих «уравнений физики», которые наполняются существованием различных природных энергий: электрической, биологической, атомной, химической, механической, тепловой и тд тп
Что есть тогда человек? Человек также детерминирован законами природы как весь прочий мир. Также имеет в основе своей «общую природу» законов интеллекта, и также материален. Но он больше обычной материи, потому что способен понимать эти законы природы! Видеть интеллектуальную форму заложенную богом в основу космоса! И это видение законов природы – есть сущность человека. «Я мыслю, следовательно, я существую», именно это хотел я сказать этой, теперь уже знаменитой фразой. Мы мыслим, следовательно, мы существуем! Наше мышление и законы природы – два полюса единого космического интеллекта: активный и пассивный его полюса. Когда ты Рассел рассказываешь о моей философии рационализма, ты хорошо объясняешь, что я понимаю под теорией познания: проникновение в интеллектуальную сущность вещей, видение их закономерности. То, что ты Платон называешь, «коснуться умом в вещах того, что родственно уму», то есть законов природы, пассивного интеллекта. То, что ты Спиноза, называешь интеллектуальной любовью к Богу: стремление мышления к познанию необходимости, то есть детерминированного законами космоса.
Как красиво сказал об этом Ф. Бэкон в «Новом органоне»:
«Когда же все это будет развито и когда наконец станет ясным, что приносила с собой природа вещей и что – природа ума, тогда будем считать, что при покровительстве божественной благости мы завершили убранство свадебного терема Духа и Вселенной».
И наше определение свободы известно еще со времен стоиков: свобода как осознанная необходимость. Свобода познать себя, и быть самими собой. Не выйти за пределы необходимости данной богом, но найти свою природу, узнать ее, и контролировать ее через контроль законов природы. Вот что значит быть свободным и одновременно подчиняться необходимости природы.
Какую свободу принесли нам вы, эмпирики и субъективисты? Вы, разрушившие наш интеллектуальный космос законов природы? Вы, доказывавшие, что законов природы нет и быть не может. С этого утверждения начинается знаменитая философия Давида Юма. Он утверждает, что человек может наблюдать последовательность событий, но не может наблюдать причинные связи. А значит, он самовольно связывает последовательность событий в законы, тогда как его утверждения голословны.
Здесь Кант «проснулся от догматического сна», и ответил Давиду Юму. Он сказал ему в «критической философии», что других законов природы не бывает, только те, которые человек придумывает сам. Потому что, говорит ему Кант, Пространство и Время – это только иллюзия, которую создает наше сознание, и эта иллюзия сознания связывает все вещи в законы. А сами вещи мы не можем ни знать, ни видеть. Таким образом, Кант разрушил интеллектуальный космос из заложенных творцом законов природы – он также его отрицает, как и Юм. Сознание человека у Канта больше не является частью божественного интеллекта, мышлением, которое имеет ключ к интеллектуальной форме космоса. Для Канта сознание всего лишь субъективный способ восприятия человеком мира. Это уже не интеллект, который входит в объективный мир и открывает его законы и контролирует эти законы. Это уже просто субъективное свойство материи все связывать в законы. Практика опровергает Канта лучше любой критики: ведь если бы человек фантазировал мир, он не смог бы его контролировать. А посмотрите на современную технику. «Материя – это то, что удовлетворяет уравнениям физики!»
Так, эмпирик Юм и идеалист Кант разрушили все здание философии рационализма: и пассивный интеллект законов природы и активный интеллект мышления, имеющий доступ к этим законам природы. Разрушили представление об «Общей природе» человека, выраженной в законах природы и подчиняющихся общей необходимости, с относительной свободой контроля законов природы, с доступом к силе энергий природы! Что они дали нам взамен? Мистическую теорию абсолютной свободы сознания, раздутое «эго» «законодательствующего разума», а значит войну всех против всех.
Действительно, Фихте в своей философии, которую он называл продолжением и завершением философии Канта, отказался от «вещей в себе», от объективного мира, недоступно субъективному восприятию человека, и уже установил абсолютный субъективизм «абсолютного Я». Сознание у Канта абсолютно свободно устанавливать себе какие угодно законы, но все же оно существует в мире, ему неподвластном. У Фихте весь мир лежит у ног абсолютной воля Я человека. Гегель пошел еще дальше. Он превратил это «Я» человека в мировой дух, который сам себе устанавливает законы, меняет их, когда ему вздумается, а потом просыпается в человеке. Он сделал попытку уйти от субъективизма Канта, но только усугубил ситуацию, поскольку его мировой дух – не установленные законы природы, которые можно познавать, а постоянно меняющиеся «становление» субъекта, за которым человеческому разуму не угнаться. Так, сказочники немецкого идеализма создали мистику абсолютной свободы сознания человека, разрушив вместе с рационализмом само понятие интеллекта, понятие мышления и научную методологию.
Если для рационалиста наука определяет границы его относительной свободы, то для субъективиста свобода рисует границы науке. Рационалист ищет не свободы, а единства с природой, где он мог бы быть самим собой. Он свободен, когда реализованы потенции его природы, когда ему доступно научное знание, контроль природных энергий и доступ к этим энергиям, доступ к своей психической энергии в дружбе, доверии и сотрудничестве с людьми. Субъективист ищет абсолютной свободы своего «Я», настолько, что готов и интеллекту приписать границы и правила, вместо того чтобы подчиняться необходимости интеллекта: и в законах мышлениях, и в открытых законах природы. Вместо этого он отрицает, законы природы и отрицает законы мышления, и объявляется себя абсолютным монархом с абсолютной свободой воли. Таков «художник-творец» у Ницше и у Сартра, таков Абсолют Гегеля и «Законодательствующий разум» Канта, самовольно издающий законы для себя и для природы, вместо того, чтобы подчиняться им.
Это отличие в понимание духовной энергии человека (отличие между свободой осознанной необходимости и между свободой абсолютной свободы воли) – есть отличие между здоровым научным сознанием человека, и нездоровой шизоидной мистификацией сознания. Неслучайно, все кто приближался к немецкому идеализму слишком близко, тяжело заболевали. И в первую очередь сами немцы. Разумеется, мистическая интоксикация была у людей и до философии немецкого идеализма, однако эта философия стала некоей кульминацией ее развития.
На этом месте посчитал нужным вмешаться Томас Манн.
– Да, Декарт прав, – сказал он трагическим голосом. – Мы немцы, потерпели сокрушительное поражение с тех пор, как основой нашей культуры стала философия субъективного идеализма. Как высок и благороден гений, раскрывающийся в даровании наших философов! Да, я настаиваю на том, что гений Канта, гений Фихте, гений Гегеля и Шопенгауэра, гений Ницше, бедного безумного Ницше – велик и благороден! Может быть самое великое, что есть у немцев! Кто-то из них писал, что философия Канта вознесла человеческое «Я» на невиданную до тех пор головокружительную высоту! Разве это не прекрасно само по себе, разве это не высокое искусство само по себе?
Об этом я писал в «Докторе Фаустусе». Уже названием книги я хотел сказать о гении немцев, свыше всякой меры одаренных духовно. Я хотел напомнить о твоем «Фаусте», ты, гордость нашего великого народа. Я писал та о Бетховене, чей героический дух воспет тобой, благородный Ромен Роллан. Я дал рассказчику твое имя, Серен Кьеркегор, чтобы отмежеваться от гегелевского духа. Кто жестче меня понимает безумие и провал всего священного духовного энтузиазма немцев? Разве не отразил я его в этой книге? Вы только послушайте!
Томас Манн «Доктор Фаустус»:
«Да, мы пропали. То есть я хочу сказать: мы проиграли войну, – но ведь это означает нечто большее, чем просто проигранная компания, это ведь на самом деле значит, что пропали мы, пропало наше дело и наша душа, наша вера и наша история. С Германией покончено, с ней будет покончено, близится невиданная катастрофа – экономическая, политическая, моральная и духовная, словом всеобъемлющая; не скажу чтобы я этого желал, ибо это —отчаяние, это – безумие. Не скажу чтобы я этого желал ибо слишком глубоко мое горькое сострадание, мое сочувствие моему несчастному народу, о его подъеме, порыве, прорыве, о народном возрождении, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому правда в знак его ложности примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать, и который как ясно каждому посвященному уже нес с собой всю эту войну, всю эту войну – у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством. Я знаю чего желал, я буду это приветствовать: из ненависти к преступному пренебрежению разумом, к греховному бунту против правды, к разнузданно-пошлому культу дрянного мифа, к порочной путанице подменяющей ценное бесценным, к глубокому злоупотреблению, к жалкой спекуляции старинным, заветным, исконно немецким – всем, из чего глупцы и лжецы гнали для нас свое ядовитое зелье. За хмель которым мы упивались долгие годы обманчивого кутежа и в котором напропалую бесчинствовали, надо платить. Чем? Я уже написал это слово, я назвал его в связи словом „отчаяние“ Не стану его повторять. Нельзя дважды преодолеть тот ужас, с каким выше, досадно расплывшимися буквами, я его написал».
Да, друзья, это слово «безумие». И мне известно, что гитлеровская Германия обезумила! И мне также известно, что один этот проходимец никогда бы ничего не сделал, если бы гений немцев не стал их слабостью! Они искали «подъема и прорыва» в «священном экстазе» и за это их покарал демон! За самый высокий ум он сделал их безумными! За самое честное сердце он сделал их подлецами! За самую христианскую правду он сделал их лжецами и дураками! Вот о чем моя книга!
Не вините наших гениев, вините злые силы, которые вмешались, чтобы отомстить немцам за их гениальность!
Тут встал Серен Кьеркегор со своей ироничной улыбкой на устах.
– Уважаемые Духоборцы! Уважаемый Томас Манн! Я очень польщен, что ты дал мое имя своему герою в «Докторе Фаустусе». Однако, позволь не согласится с твоими выводами. Гений твоих соотечественников наказал сам себя, зачем суесловить о вмешательстве демона? Конечно, мы все с тобой согласны что немцы очень одаренны духовно, что они расположены к абстрактной мысли. Для науки такие способности необходимы. Но, увы, пока настоящей науки нет, очень велика опасность слишком далеко улететь от реальности с такими головокружительными высотами абстракции мысли. Я в «Болезни к смерти» называю это уйти от необходимого, и потеряться в кривом зеркале возможного. Если ты не видишь, что Кант, Фихте, Гегель, и Ницше, этот остов немецкого идеализма, потерялись в фантазиях воздушных замков, если ты не видишь, что высота, на которую их Эго занесла эта философия, неизбежно должна была сбросить их и разбить, просто потому что она была высотой воздушного замка на песке, то ты сам остаешься мистиком. И ты так и не понял причин этого безумия, и неизбежного поражения этого безумия. Это философия абсолютной свободы Я, которое свободно от своей природы, от необходимости, установленной в законах творца, – вот где великий грех немецкого идеализма, грех, который я назвал «болезнью к смерти». Ибо, этот грех не только ведет к потере всякой свободы, но и к тому безумию и поражению, о котором ты говоришь.
Вот что я писал об этом
Кьеркегор «Болезни к смерти»:
«Это Я, которым стремится стать этот отчаявшийся, по сути есть Я, которое таковым не является (ибо стремиться быть таким Я, каким он на самом деле есть, – это сама противоположность отчаянию), то, к чему он стремится на деле, – это отделить свое Я от его творца. Однако это ему не удается, несмотря на то, что он отчаивается, – и, несмотря на все усилия, которые он прилагает для того, чтобы отчаиваться, этот творец остается самым сильным, и принуждает его быть тем Я, которым он не желает быть. Таково отчаяние, эта болезнь Я, „смертельная болезнь“. Отчаявшийся – это больной к смерти. Более чем какая-либо иная болезнь, эта болезнь направлена против самой благородной части существа. Все равно вечность заставит раскрыть отчаяние его состояния и пригвоздит его к собственному Я… Ведь, в конце концов, все здесь зависит он произвола Я. Стало быть, отчаявшийся человек только и делает, что строит замки в Испании и воюет с мельницами. Сколько шума всегда о добродетелях такого постановщика опытов! Эти добродетели на мгновение очаровывают, подобно восточному стиху: такое владение собою, каменная твердость, вся эта атараксия и так далее, они как из сказки. И они действительно выходят прямо из сказки, ибо за ними ничего не стоит. Это Я в своем отчаянии хочет вкусить наслаждение самому создавать себя, облекать себя в одежды, существовать благодаря самому себе, надеясь стяжать лавры поэмой со столь искусным сюжетом, короче, так прекрасно умея себя понять. Но что он подразумевает под этим, остается загадкой: ибо в то самое мгновение, когда он думает завершить все сооружение, все это может, по произволу, кануть в ничто. Это Я, отрицающее конкретные, непосредственные данности Я, возможно, начнет с того, что попытается выбросить зло за борт, притвориться. что его не существует, не пожелает ничего о нем знать. Но это ему не удастся, его гибкость и искусность в опытах не доходит до такой степени, как, впрочем, и его искусность строителя абстракций; подобно Прометею, бесконечно негативное Я чувствует себя пригвожденным к такому внутреннему рабству».
– Я поддерживаю Кьеркегора, – сказал, поднимаясь на кафедру, Альбер Камю. —
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Те, что все отрицают и дозволяют себе убийство, – Сад, денди-убийца, безжалостный Единственный, Карамазов, последыши разнузданного разбойника, стреляющий в толпу сюрреалист – все они добиваются, в сущности, абсолютной свободы, безграничного возвеличивания человеческой гордыни. Обуянный бешенством нигилизм смешивает воедино творца и тварь. Устраняя любое основание для надежды, он вбрасывает все ограничения и в слепом возмущении, затмевающем даже его собственные цели, приходит к бесчеловечному выводу: отчего бы не убить то, что уже обречено смерти».
Да, я тоже писал о том, что есть две духовные энергии: одна демоническая упертость против творца, а другая здоровая, свобода осознанной необходимости. Первое есть поиски абсолютной свободы, отрицающая науку, добродетель и общую природу человека. Вторая есть относительная свобода, подчинение законам мышления и законам природы, единение с человеческим духом рационализма и добродетели.
В свое время мы поссорились по этой причине с Сартром. Мне стала противна его философия этого раздутого Эго немецкого идеализма, этой демонической свободы, которая отказывается признавать законы природы и общую природу человечества! И я написал книгу «Бунтующий человек», где со всей ясностью выступил против философии Ницше, Гегеля, Маркса, против сюрреализма Андре Бретона, против всякой субъективности, о которой так хорошо сказал Кьеркегор в «Болезни к смерти».
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Анализ бунта приводит по меньшей мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, соответственно представлениям древних греков и вопреки постулатам современной философии. Точно так же в XIX в. все научные дисциплины преодолели неподвижность и отошли от идеи классификации, что было характерно для научной мысли XVIII в. Подобно тому как Дарвин сменил Линнея, философы непрерывной диалектики сменили гармоничных и бесплодных конструкторов разума. С этого момента возникает идея (враждебная всей античной мысли, которая частично обнаруживала себя в революционном французском духе), что человек не обладает данной ему раз и навсегда природой, что он не завершенное создание, а становление, творец которого отчасти он сам. С Наполеоном и Гегелем, этим Наполеоном от философии, начинаются времена действенности. Но в то же время разум у Гегеля охвачен дрожью безумия, в него внесена безмерность, и результат – налицо. Разум, находящийся во власти подобного романтизма, – это уже не что иное, как неукротимая страсть.»
У Сартра, который понимает человека как художественный проект, реализующий самого себя, где сам человек и бог и творец, так что ни прошлое «ничто под небесами» не может помешать ему реализовать свою абсолютную волю, моя книга вызвала отвращение. Потому что я вернулся к тебе Декарт, потому что мне противен иррационализм и отрицание законов природы, еще противнее мне нигилизм и отрицание общей природы и общей этики человечества. Да, я предстал там рационалистом и гуманистом, и это вызвало отвращение у ницшеанца Сартра. И я тоже разделил две духовные энергии человека, когда говорил о демоническом бунте (люцефирианском) романтиков с одной стороны, и о античном бунте рационалистов – с другой стороны. Первое есть та шизоидная экзальтация абсолютной свободы, которая высвобождает безумию и агрессию в человеке; второе – те высоты здорового духа, которые дают человеку его великую силу в научном мышлении, и в единении сотрудничества и дружбы.
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Ненависть к формальной добродетели, этой ущербной свидетельнице и защитнице божества, лжесвидетельнице на службе у несправедливости, остается одной из пружин сегодняшней истории. «Нет ничего чистого» – от этого крика судорогой сводит наше столетие. Нечистое, то есть история, вскоре станет законом, и пустынная земля будет предана голой силе, которая установит или отринет божественность человека. Тогда насилию и лжи предаются так, как отдают себя религии, – в том же самом патетическом порыве. Но первой основательной критикой чистой совести, разоблачением прекрасной души и выявлением недейственности этих Добродетелей мы обязаны Гегелю, для которого идеология истины, красоты и добра есть религия людей, которые ими не обладают.
Действительно, романтизм с его люциферианским бунтом выльется только в авантюры воображения. Так же как у Сада, его отличие от античного бунта выразится в том, что он сделает ставку на индивида и зло. Акцентируя силу вызова и отказа, бунт на этой стадии забывает о своей позитивной стороне. Поскольку Бог взывает ко всему доброму в человеческой душе, нужно превратить все доброе в посмешище и выбрать зло. Таким образом, ненависть к несправедливости и смерти приведет если не к осуществлению, то, по крайней мере, к апологии зла и убийства. Это обусловливает нигилизм и снимает запрет с убийства. Убийство вскоре станет привлекательным. Достаточно сравнить Люцифера в средневековых изображениях с романтическим Сатаной. «Печальный очаровательный юноша» (Виньи) занимает место рогатой твари. «Красой блистая неземной» (Лермонтов), могучий и одинокий, страдающий и презирающий, он убивает, не задумываясь. Но его оправдывают страдания. Поэтому понятно замечание Андре Бретона о Саде: «Конечно, ныне человек может слиться с природой только через преступление; остается разгадать, не является ли это одним из самых безумных и неоспоримых способов любить». Вот почему наследие романтизма усвоил не Гюго, пэр Франции, а Бодлер и Ласенер*, поэты преступления. По словам Бодлера, «все в этом мире источает злодеяние – и газета, и стена, и человеческое лицо».
В противоположность этой абсолютной свободе демонизма, которую проповедует немецкий идеализм, романтизм и дендизм, мы проповедует общую природу человека, относительную свободу осознанной необходимости рационалистов, добродетель взаимного уважения и дружбы.
А. Камю «Бунтующий человек»:
«Хотя бы на мгновение. Но пока достаточно и этого, чтобы сказать, что предельная свобода – свобода убивать – несовместима с целями бунта. Бунт ни в коей мере не является требованием тотальной свободы. Напротив, он призывает к суду над ней. Он по всей справедливости бросает вызов неограниченной власти, позволяющей ее представителям попирать запретные границы. Отнюдь не выступая за всеобщее своеволие, бунтарь хочет, чтобы свободе был положен предел всюду, где она сталкивается с человеком… В этом глубочайший смысл бунтарской непримиримости. Чем более бунт осознает необходимость соблюдения справедливых границ, тем неукротимей он становится. Бунтарь, разумеется, требует известной свободы для себя самого, но, оставаясь последовательным, он никогда не посягает на жизнь и свободу другого. Он никого не унижает. Свобода, которую он требует, должна принадлежать всем; а та, которую он отрицает, не должна быть доступна никому. Бунт – это не только протест раба против господина, но и протест человека против мира рабов и господ. Стало быть, благодаря бунту в истории появляется нечто большее, чем отношение господства и рабства. Неограниченная власть уже не является в нем единственным законом. Во имя совсем иной ценности бунтарь утверждает невозможность тотальной свободы, в то же время требуя для себя свободы относительной, необходимой для того, чтобы осознать эту невозможность. Каждая человеческая свобода в глубочайшем своем корне столь же относительна. Абсолютная свобода – свобода убивать единственная из всех, не требующая для себя никаких границ и преград. Тем самым она обрубает свои корни и блуждает наугад абстрактной и зловещей тенью, пока не воплотится в теле какой-нибудь идеологии. Стало быть, можно сказать, что бунт, ведущий к разрушений алогичен. Будучи поборником единства человеческого удела бунт является силой жизни, а не смерти. Его глубочайшая логика – логика не разрушения, а созидания».
Жюльен Бенда встретил выступление друзей громкими аплодисментами.
– Ты, Альбер Камю, написал великую книгу! – сказал он. – Дай я пожму твою честную руку! Как мужественно ты выступил против иррационализма и нигилизма немецкой философии, и романтического экзистенциализма! Однако, позволь тебе сказать, ты очнулся только после Второй мировой войны, когда немцы уже проявили все безумие своего «обманчивого куража», как сказал Томас Манн. Я же написал свою книгу «Предательство интеллектуалов» накануне Второй мировой! И все мои опасения вскоре полностью подтвердились! И тогда мою книгу издали второй раз. Ты думаешь, даже эта страшная война смогла придать моим словам силу? О них тут же забыли. А немецкий идеализм живее всех живых. Вот что я тогда писал.
Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов»:
«Напомним, что в истории философии почитание единичного, индивидуального – это вклад немецких философов (Шлегеля, Ницше, Лотце), тогда как метафизическое преклонение перед всеобщим (соединенное даже с некоторым пренебрежением к экспериментальному) – преимущественно греческое наследие человеческого разума; так что и в этом отношении учение современных интеллектуалов в его глубинных особенностях означает торжество германских ценностей и поражение греческой культуры. …Сегодняшняя действительность дает еще больше оснований для такого утверждения. Признанные учители наших поэтов (сюрреалистов) – Новалис и Гёльдерлин; наши философы (экзистенциалисты) объявляют себя приверженцами Гуссерля и Хайдеггера; триумф ницшеанства стал подлинно мировым».
Другим предательством интеллектуалов является, на протяжении двадцати лет, позиция многих из них в отношении последовательных изменений мира, особенно его экономических изменений. Она состоит в отказе от рассмотрения этих изменений с помощью разума (т.е. с точки зрения, внешней по отношению к ним) и от поиска их закономерностей, согласных с рациональными принципами; Это тезис диалектического материализма. Эта позиция, вопреки притязаниям тех, кто ее разделяет, никоим образом не является новой формой мышления, ≪новейшим рационализмом≫; она есть отрицание разума, если полагать, что разум состоит как раз не в том, чтобы сливаться с вещами, а в том, чтобы создавать в рациональных понятиях представления о них. Это позиция мистическая».
Я говорил о нашем сообществе Людей Духа, когда писал, что интеллектуалы хранили цивилизацию от агрессии бессмысленного насилия и от распространения права силы. Я говорил о том, что немецкая философия разрушила рационализм, который олицетворяли античные греки, Декарт, Спиноза, Ренан, Эйнштейн. Я говорил, что интеллектуалы предали нас, когда отказались от рационализма, когда современная философия стала выдавать за рационализм – мистику субъективизма, когда отказались от общей истины и от этики, разрушив само понятие истины и добродетели.