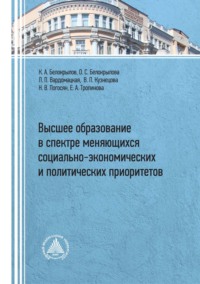Полная версия
Великие люди джаза. Том 1
Несомненной заслугой Байдербека является использование новой для того времени мягкой и лирической манеры игры на корнете, который он (в отличие от множества других трубачей-современников) так и не сменил на трубу. Интересны его фортепианные сочинения, обнаружившие неплохое знание современной ему академической фортепианной музыки, в частности импрессионистов. Особенности же его игры на корнете связаны прежде всего с тем, что он никогда ни у кого не учился играть на этом инструменте и буквально изобрёл всю аппликатуру (движения пальцев при игре) самостоятельно. В результате он обладал звуком, резко отличавшимся от звучания современных ему трубачей и корнетистов – округлым, ровным, почти лишённым тембральных фокусов, которыми характеризовалась, например, игра Луи Армстронга; весьма своеобразна была и его импровизационная манера, базировавшаяся в основном на обыгрывании ступеней диатонического звукоряда.
Луи Армстронг признавал в Байдербеке равного себе, а корнетист оркестра Дюка Эллингтона – Рекс Стюарт – настолько любил игру Бикса, что не только сохранял, как и его кумир, верность корнету, но и буквально дословно воспроизводил многие соло Байдербека в своей игре. Неоспоримо влияние Бикса на таких трубачей следующего поколения, как Ред Николс и Банни Бериган.
Творчество и музыка Бикса Байдербека были подробно проанализированы в классической серии из 19 получасовых радиопрограмм, которые были подготовлены WMUB, радиостанцией Университета Майами (автор – Джим Гровер), в мае 1971 года. Программы включали не только музыку Бикса, но и уникальные интервью с современниками Бикса – его братом Чарлзом Байдербеком, а также музыкантами Луи Армстронгом, Хоуги Кармайклом, Эдди Кондоном, Джином Крупой, Бингом Кросби, Джимми Макпартландом и др. В 2001 году серия этих программ была вновь передана в эфир радиостанцией WMKV в Цинциннати, а затем размещена в интернете на посвящённом Биксу Байдербеку сайте www.bixography.com.
Патрисия Барбер. Как она делает это?
Татьяна Балакирская

Имя Патрисии Барбер в джазовых кругах уже давно стало, как принято писать в модных журналах, «культовым». Впрочем, начало творческой деятельности чикагской вокалистки, пианистки, поэтессы и композитора не изобиловало восторженными отзывами критиков. Начинала Патрисия, можно сказать, «гадким утёнком» – барышня-интеллектуалка с психологическим образованием и срывающимся, дрожащим голоском отказывалась следовать джазовому конформизму, музыкой особо не зарабатывала – сочиняла, играла и пела собственную странную музыку, получая «тумаки» от музыковедов. Шло время, выходили альбомы («Split», 1989), в том числе и на мэйджор-лейблах («А Distortion of Love», Verve, 1992). Правда, после опыта общения с Verve стремящаяся к независимости в творчестве Патрисия уже не горела желанием связываться с мэйджорами: «Cafe Blue» (1994) и «Modern Cool» (1998) изданы на крохотном лейбле Premonition (который тем не менее вскоре выкупила Blue Note — но с этой компанией у Патрисии до сих пор хорошие отношения).
Постепенно к Барбер приходило признание слушателей и рецензентов, её музыка обретала репутацию изысканной, непростой, наполненной множеством коннотаций, могущей иметь несколько прочтений, гипертекстуальной; не абсолютно авангардной, но близкой к тому, чтобы быть таковой. Последние же три альбома Патрисии Барбер – «Verse» (2002), «А Fortnight In Paris» (2004) и новенький «Mythologies» (2006) – с полным правом могут быть названы шедевральными. Они выполнены в едином узнаваемом стиле, записаны с одной и той же командой музыкантов; явственно демонстрируют, что Патрисия Барбер сейчас находится в пике своей креативности, что она окончательно нашла свою нишу в искусстве, умело её обустроила и не собирается её никому сдавать в аренду и уж тем более передавать.
Несмотря на то, что Барбер начала регулярно издаваться и активно концертировать в начале 90-х и не застала то время, когда большинству прогрессивных западных музыкантов путь в Россию был закрыт, за 15 с лишним лет она ни разу не посетила нас с концертом. Первый (и пока единственный) её приезд состоялся в декабре 2006 года (8 декабря в Петербурге и 9-го в Москве). Московский концерт прошел без помпы, без излишней (да вообще какой бы то ни было) претенциозности. Не висели по столице «бигбор-ды», не было перетяжек поперёк улиц, билеты на концерт не разыгрывались по радио, и даже в Интернете информацию о её приезде можно было встретить далеко не везде. Традиционная афиша Московского международного Дома музыки да пара онлайновых билетных касс – вот и вся реклама. Даже авторы «Джаз. Ру» спохватились не раньше чем за неделю до события. Повторюсь: скромно, почти незаметно прошёл исторический первый приезд Патрисии Барбер в Москву, и даже зал для неё был приготовлен не большой Светлановский (где в этот вечер играли блюз на губной гармонике), а Камерный. Впрочем, для Патрисии это характерно: «Надо довольствоваться тем, чтобы много значить для малого количества людей. Иногда мне жалко, что мои альбомы не продаются миллионными тиражами, но… иначе невозможно быть первопроходцем, стоять на переднем краю».
Иными словами, в Камерный зал ММДМ пришли главным образом неслучайные люди. Те, кто доверяют не слоганам афиш «королева джаза Патрисия Барбер» (что, собственно, и было написано в рекламе концерта), а собственному музыкальному вкусу. Впрочем, были среди аудитории и те, кому имя Патрисии ни о чём не говорило – «пришли на джаз». И ведь, знаете, они этот джаз получили: соответствие афишному лозунгу, во всяком случае в первом отделении концерта, имело место быть.
С некоторым опозданием – но мы к этой неотъемлемой составляющей любого концерта уже привыкли, – на сцену выходит квартет: сама Барбер, барабанщик Эрик Монтцка, гитарист Нил Элджер и басист Майкл Арнопол. Патрисия одета в чёрное – небрежную футболку, поверх которой развевается блузон, и брюки; волосы забраны наверх; на лице поблёскивают очки, в ушах – массивные серьги-кольца. На то, какой среднестатистический россиянин представляет себе джазовую певицу, Патрисия совсем не походит. На концертного менеджера, вышедшего поставить бутылки с водой возле комбиков, или на билетного администратора – вполне. На практикующего психолога – абсолютно.
Но вот наш психолог садится за рояль, снимает обувь и носки, ставит босые ступни на педали инструмента, опускает руки на клавиатуру и внезапно… превращается из психолога в пациента.
Иной раз, бывает, сидишь в темноте, слушаешь, как Патрисия вшёптывает прямо в твоё ухо поток своего сознания, как осторожно она вжимает пальцы в клавиши, и думаешь: какая же она на сцене, эта женщина? Как она делает ЭТО на глазах посторонних людей? Наверное, она закрывает глаза.
Замыкается.
Боится сделать лишнее движение, чтобы ни один случайный звук не родился под крышкой рояля.
Да, закрывает глаза. Но лишних движений не то чтобы не боится, а пытается сделать как можно больше: вся извивается, широко открывает рот, как от немой боли или высшего наслаждения, приподнимает босые ноги, изгибает ступни, бьет ими по полу, сжимает пальцы, боком наклоняется к клавиатуре. «Кит Джарретт в юбке» – подумала я и осеклась: если Патрисия откровенно признаёт, что хочет быть похожей на Джаррета (и Брэда Мелдау, если уж на то пошло), то точно так же откровенно она отвергает юбки и все социально-сексуальные роли, ассоциируемые с этим предметом одежды.
Да, замыкается: общение с залом сокращено до минимума, музыканты поддерживают строгий визуальный контакт, их взгляды редко бывают направлены в зал: всё больше внутрь себя и друг на друга.
Тем временем начало концерта состоит из свинговых стандартов. В первой, инструментальной, вещи музыканты своеобразно «представились» слушателям: каждый исполнил по «демонстрационному» соло, наглядно показав, кто на что способен. Лишний раз подтвердилось, что между Нилом Элджером и Патрисией существует особое взаимопонимание, существуют общие представления о стилистике произведений и фактуре звука. Так же, как Патрисия, Нил по многу раз повторяет особенно удачные, найденные в собственном импровизационном потоке фразы; так же напористо он ищет нестандартные решения, любит зарыться головой в диссонансы, играет с настроениями. Вообще, говоря по чести, в том, что последние три альбома Барбер олицетворяют зрелость, целостность, самодостаточность и имеют высокую музыкальную ценность – немалая заслуга Элджера. В некоторые же моменты концерта – так и вовсе кажется, что присутствие Нила является залогом успеха той или иной композиции…
Преуменьшать роль ритм-секции в создании эксклюзивного саунда «от Барбер» тоже не стоит. Эрик Монтцка сидит за ударной установкой, расположенной боком к зрительному залу, так что легко просматриваются все его телодвижения и изменения в лице; Майкл Арнопол то и дело меняет электроконтрабас на бас-гитару, равно свободно себя чувствуя и с первым, и со второй. Эрик и Майкл, эти братья-близнецы (музыканты действительно очень похожи друг на друга формой черепа, причёсками, бородками и очками; их отличает разве что одежда, цвет волос, инструменты – и то, что у Майкла цветная татуировка на всю руку), потрясающе тонко чувствуют своих коллег, «умеют играть тихо и громко», виртуозно владеют инструментами; наконец, обладают восхитительным чувством меры и вкусом.
Во время прослушивания же второй вещи концертной программы, стандарта «’S Wonderful», вспоминать о виртуозности, техническом совершенстве или композиционном новаторстве музыкантов не приходится. Произведение звучит в традиционной аранжировке, без намёка на эксперименты, даже без гармонических выпадов в ту или иную сторону. Таких вещей, спокойно-стандартных, в этот вечер прозвучало несколько; и всякий раз приходилось недоумевать, с чего это вдруг Патрисии вздумалось включать их в программу. Есть же прекрасный новый альбом «Mythologies», созданный на основе «Метаморфоз» Овидия (в 2003-м под написание цикла произведений по мотивам этого сборника Патрисия получила стипендию Гуггенхайма). Есть масса собственных, пусть и старых, оригинальных пьес… Зачем? Ведь не за исполнение стандартов мы любим Барбер, и не благодаря ему она известна, и, прямо скажем, не так она в нём и хороша, как в исполнении авторских вещей. Вокальный скэт даётся Патрисии тяжело; во фразировке она то и дело обращается к уже повторенным решениям… Как оказалось позже – все дело было в стереотипах (ах, Патрисия! Как же психологическое образование? Зачем нам все эти стереотипы?) Барбер не знала, как обстоят дела с джазом в России, и даже поначалу думала о том, чтобы привезти программу музыки Каунта Бэйси. Впрочем, может, это была шутка. Да только после первого отделения, в антракте, автор статьи всерьёз задумалась: а концертная ли артистка Патрисия Барбер? Может быть, её и вправду следует слушать только в студийной записи, самостоятельно прорисовывая образ, придавая ему желаемую форму, сотворяя из неё кумира?..
Однако впоследствии некоторые из сомнений развеялись. Новые произведения мы всё-таки услышали, и даже в версиях, несколько отличных от студийных. Вступление к «The Moon», записанной и на «Verse», и на «Mythologies» — вообще благодатная почва для всяческих вариаций. Патрисия дёргает струны рояля и «заводит шарманку», Нил щиплет медиатором верх грифа, Эрик проводит щётками по нижней стороне рабочего барабана, Майкл стучит пальцами по струнам – и когда-то медитативная «The Moon» взрывается злейшим драм-н-бейсом. Патрисия яростно лупит аккорды, Нил из череды секвенций выныривает в нетривиальные интервальные последовательности и включает «вау-фактор». Вся эта мясорубка очень напоминает беснования музыкально одарённых подростков в репетиционной комнате…
После перерыва на slow swing следует ещё одна пьеса с нового альбома, «Hunger», – только сейчас, на концерте, приходит в голову, что эта вещь сродни «I Can Eat Your Words» с диска «Verse» своими гастрономическими метафорами, сочно звучащими словоформами и приглушённым речитативом.
Второе отделение уже в значительно большей степени состояло из нового материала и отражало актуальное творческое состояние музыкантов куда более адекватно. Однако недоумение не исчезло: изменилась лишь его причина. Патрисия, несмотря на кажущийся сценический энтузиазм, выглядит немного уставшей. Она с удовольствием передаёт бразды правления своим мужчинам, с видимым удовлетворением просто сидит за роялем, положив голову на руки и вытянув ноги, наблюдая за «мужскими играми». Один раз даже покинула сцену посреди произведения. А парни и рады: то и дело срываются на джаз-рок и брейкбит – особенно Монтцка, – позволяют себе длительные (и презамечательные, нечего уж тут!) соло. В который раз восхищаюсь: как прекрасен, как изобретателен Нил в импровизации – ведёт, распутывает невидимую ниточку, а там – новый узелок, а в него вплетена нитка совсем из другого клубка, и распутывается она иначе – отличная по фактуре, толщине, закрученности; и нагнетает напряжение Майкл, и в совсем немыслимые места выстреливает Эрик синкопами, и все сильнее затягивает звуковая воронка, и вдруг растворяется в никуда…
Одной из самых ярких пьес этого вечера (и, соответственно, нового альбома Барбер) стал «Icarus». Это песня из разряда тех, которые нельзя анализировать. Им надо просто отдаться, ввериться, как доверяешь ветру, когда уже вцепился в поручни планера или стропы парашюта: и этот ветер, и слепящие лучи света, и страх полёта, и шалое понимание того, что ты решился довериться небу – всё есть в этой песне.
Как есть пронизывающий холод и запах хвои в «Norwegian Wood». В этой вещи – кавер-версии на хит от The Beatles, записанный Барбер в альбоме «А Fortnight In Paris» — текст, вопреки сложившейся у Патрисии традиции, – не главное. Слова звучат только в экспозиции, пропеваются быстро-быстро, словно музыкантам не терпится показать игрой, как они видят свой Норвежский Лес.
Едва отняв руки от струн, клавиш и барабанных палочек, музыканты встают, несколько минут раскланиваются и удаляются за кулисы. Публика ММ ДМ, впрочем, редко когда отпускает артистов без биса – пришлось и квартету Патрисии Барбер уступить. В заключение прозвучала фанковая «White World», в которой Эрик Монтцка сполна отплатил бэндлидеру за все медленные свинги, прозвучавшие в этот вечер.
Зрители расходятся довольные. «I once had a girl, Or should I say She once had me…»
Кенни Баррон: с достоинством и честью
Кирилл Мошков

В ноябре 2006 года в московском Доме музыки играло трио пианиста Кенни Баррона (США). 63-летний (на тот момент) Кенни Баррон – один из тех, кого можно назвать «скромными звёздами»: он не шоумен, за него говорят его блестящие композиции и изысканный импровизационный стиль игры на фортепиано. Его место в истории джаза легко определить по послужному списку, от одного перечисления имен в котором у знатоков отваливается челюсть.
С тех пор, как в конце 50-х Баррон (р. 09.06.1943) бросил школу в Филадельфии, он, во-первых, немного поиграл в родном городе ритм-н-блюз, а затем, в возрасте 18 лет, отправился в Нью-Йорк, где сразу попал в высшую лигу – играл у трубача Ли Моргана, саксофониста Джеймса Муди и других первоклассных солистов, но краеугольный камень в основу своей репутации заложил в течение 1962–1966 годов, когда участвовал в ансамбле одного из величайших трубачей в истории джаза – легендарного создателя бибопа Диззи Гиллеспи. «Чему я научился, работая с Диззи Гиллеспи? – переспрашивал Кенни своего интервьюера в конце 1990-х. – Для меня, в мои 19 лет, это был колоссальный опыт. Всему я научился! Диззи очень много знал о ритмике. Он умел играть на фортепиано и знал много всего об аккордах и голосоведении. А главное – он стремился делиться своими знаниями. Когда я стал у него работать, мне было просто страшно, потому что это был человек, которого я в детстве в Филадельфии слушал по радио! Можете представить, что я почувствовал, когда налетел на Бродвее на Джеймса Муди, а он работал в очередной раз у Диззи, и Муди мне сказал: «Лало Шифрин уходит из ансамбля Диззи, тебя эта работа интересует?» Я сказал – конечно! Я только что женился тогда и не работал, так что я пошёл поговорить с Диззи, и он меня нанял – просто по рекомендации Муди. Он даже не слышал ещё, как я играю!»
Потом были четыре года у другого первоклассного трубача – молодого тогда Фредди Хаббарда, пять лет в ансамбле флейтиста и саксофониста Юсефа Латифа и четыре года в ансамбле контрабасиста Рона Картера. Так прошли 60-е и 70-е. В промежутках были выступления и записи со множеством джазовых звезд, среди которых Джо Хендерсон, Стэн Гетц, Элла Фицджералд, Бобби Хатчерсон и множество других (одна из записей с Гетцем, вышедшая в 1992-м – «People Time» — номинировалась на премию «Грэмми»).
Стилистика Баррона всегда была достаточно умеренной и сдержанной. Он проявлял определённый интерес к новым музыкальным формам и поискам ведущих джазовых новаторов, но сам почти не окунался в исследования новых направлений. «На собственных записях я заходил не так уж далеко, – рассказывал он в конце 90-х. – Но в 60-е я работал со своим братом (покойным Биллом Барроном. – Ред.), он был тенор-саксофонистом, вот с ним я заходил довольно далеко. И с Юсефом Латифом мы играли настоящие авангардные дела. И с Фредди Хаббардом. Тут ведь что главное: такую музыку надо играть с правильными людьми. Тогда это имеет смысл. Мне с этим везло… А то по временам это бывает просто шарлатанство (смеётся). Я помню случай, когда я работал с Фредди Хаббардом в одном клубе в Нью-Йорке, и там был один авангардный трубач – его имя не имеет значения – но он выпускал пластинки, и его называли одним из лучших авангардных музыкантов. Он пришел – дело было в Гарлеме – сыграть с нами. Я заиграл блюз. И чувствую, не клеится у него. Я чуть не упал: он просто не умел играть блюз! Для меня авангардист – это тот, кто прошёл сквозь традицию и вышел за её пределы, а не тот, кто просто взял дудку и стал в неё верещать!.. Мне нравятся вещи вроде того, что Майлс [Дэйвис] делал с Тони [Уильямсом], Хэрби [Хэнкоком] и Уэйном [Шортером] – альбомы «E.S.P.» и «The Sorcerer». Это не совсем «вне традиции». Это одновременно и вне, и внутри. Вот что я предпочитаю. Не думаю, что мог бы выжить на диете из одного только хаоса!»
В начале 80-х Кенни Баррон основал квартет Sphere, созданный, как декларировалось, для исполнения музыки Телониуса Монка. Этот коллектив записал ряд интересных альбомов (прежде всего «Four For АН» и «Bird Songs»), но после смерти тенор-саксофониста Чарли Роуза прекратил работать. Проект вернулся к активной деятельности только в 1998 году, когда вместо Роуза в новом составе возник маститый саксофонист Гэри Бартц. Между 86-м, когда умер Роуз, и 1998-м трое оставшихся членов первого состава Sphere (Бастер Уильямс – контрабас, Кенни Баррон – фортепиано, Бен Райли – ударные) работали как трио Кенни Баррона. В 1998-м новый состав квартета выпустил свежий альбом на лейбле Verve («Sphere») и дал цикл концертов в нью-йоркском клубе Village Vanguard. Бартц, судя по всему, и не собирался заменять покойного Роуза, который много работал ещё с самим Монком: при Бартце звучание Sphere сильно изменилось (хотя бы чисто темброво: Бартц – не тенорист, а альтист).
Кенни Баррон успешно записывался и сольно: пластинки под его именем выходят с 1974 года, и теперь их число приближается к 40. Наверное, количество перешло в качество: в 90-е годы Кенни Баррон наконец получил признание и публики, и критики, достойное его таланта. Не будем забывать, что Баррон долгое время ещё и преподавал джаз в университете им. Ратгерса в Нью-Джерси, где у него учились такие нынешние звёзды, как саксофонист Давид Санчес и трубач Теренс Бланшард. Кенни работал там четверть века и только в 1999 году уволился из университета, чтобы сконцентрироваться исключительно на создании и исполнении музыки.
Помимо записи с Гетцем, на «Грэмми» номинировались также сольные альбомы Баррона «Sambao» (1993) и «Freefall» (2001), а альбом «Spirit Song» (2000), дуэтная запись с контрабасистом Чарли Хэйденом «Night and the City» (1996) и записанный в трио с Хэйденом и барабанщиком Роем Хэйнсом «Wanton Spirit» (1994) выдвигались на Grammy сразу в двух номинациях каждый (джазовый альбом года и джазовое соло года).
Сравнивая свою молодость и ту эпоху, когда сам Кенни уже перестал преподавать джазовое исполнительство, он говорил: «Я думаю, что музыканты, которые теперь выходят из университетов, в определённом смысле куда лучше подготовлены – прежде всего в технике игры. Большинство из них может читать с листа всё, что угодно, так что они могут работать в любом коллективе. Я не думаю, что то же самое можно было сказать о большинстве тех музыкантов, которые вышли, так сказать, с улиц. Но одной вещи у многих молодых музыкантов нет – просто потому, что у них нет опредёленного опыта: это эмоциональность. Просто у них другая жизнь. Им просто не пришлось вкалывать голодными, зарабатывая себе на жизнь… И вот ещё одна вещь, которой теперь нет: у молодых нет возможности пройти своего рода ремесленное обучение, пройти ремесло с самого низа, от подмастерья, работая в разных оркестрах. Оркестров больше нет, вот в чём беда! Это не вина молодых. Это просто другое время. Они всё равно отличные музыканты, и они смогут сделать всё, что им будет нужно».
Приезд Баррона в Москву породил поначалу некие опасения: трио пианиста предстояло играть в огромном Светлановском зале Дома музыки. Сомнения знатоков сводились к боязни, что фортепианное трио – слишком камерная форма для двухтысячного зала, тем более – столь трудно поддающегося качественному озвучанию, как Светлановский.
Выяснилось, что эти сомнения если к кому и применимы, то уж отнюдь не к трио Кенни Баррона. 63-летний ветеран чувствовал себя на большой сцене как рыба в воде и совершенно не терял ощущения аудитории, за которое так ценятся выступления в маленьких клубах. Да и камерным его звучание никак не назовёшь: трио вполне может развивать вполне убедительное динамическое давление на слушателя, да и тонкие нюансы и тихие эпизоды в чинном большом зале слушаются несравненно выигрышнее, чем в клубах, где, бывает, звенят вилки, курлыкают мобильники и в голос разговаривают посетители.
С собой в Москву Баррон привёз свое гастрольное трио, в которое входят японский контрабасист Киёси Китагава и кубинский перкуссионист Франсиско Мела.
Франсиско – именно перкуссионист: хотя он играет на ударной установке, он привносит в её звучание свободу полиритмов кубинской перкуссии, да и играет, что называется, «антитехнично» – его посадка за барабанами, постановка рук и манера держать палки способны довести до отчаяния какого-нибудь преподавателя «правильной» игры, но при этом играет он столь неотразимо музыкально, с таким неподдельным внутренним огнём и таким тончайшим чувством ритмической и динамической свободы, что любого преподавателя «правильной» игры по всем этим параметрам наверняка заткнет глубоко за пояс. Огромное влияние на Франсиско Мелу, приехавшего в Бостон с Кубы, чтобы учиться, но не попавшего ни в колледж Бёркли, ни в Консерваторию Новой Англии (высоких баллов он не набрал, а денег у него не было) оказал панамский пианист Данило Перес, который терпеливо разобрал с молодым барабанщиком его ошибки и слабости и показал, как путём самообразования можно от этих слабостей избавиться. Затем Мелу взял в свой нью-йоркский ансамбль саксофонист Джо Ловано, и так в 2001 году началось его восхождение по профессиональной лестнице – в январе 2006 года он уже давал сольный мастер-класс на конференции Ассоциации джазовых преподавателей в Нью-Йорке, а теперь гастролирует с Кенни Барроном.
Контрабасист Китагава перебрался в Нью-Йорк из Японии полтора десятилетия назад, но до сих пор чувствует себя частью японской сцены – в частности, лучшие его записи сделаны с японским пианистом Макото Одзонэ. Но уровень, которого он достиг в Америке, впечатляет – записи и гастроли с саксофонистом Кенни Гарреттом, выступления с тромбонистом Стивом Турре, квартетом ветерана-саксофониста Джимми Хита, а в последние годы – регулярные гастроли с Кенни Барроном. Игра Китагавы, с его жёстким звуком, в котором из трёх составляющих контрабасового звучания – «дерева», «струн» и «пальцев» – ощутимо преобладают довольно шумные «пальцы», а строй контрабаса довольно ощутимо качается в верхней части диапазона, весьма напоминает звучание Рона Картера, только сказочной картеровской беглости не хватает.